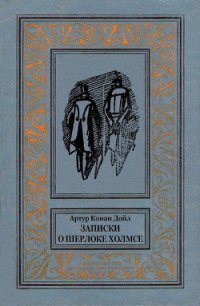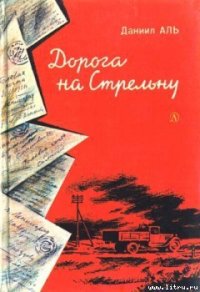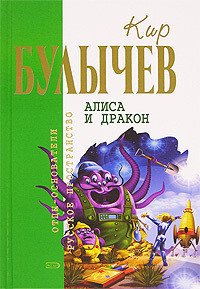Рассказы о литературе - Сарнов Бенедикт Михайлович (книги онлайн полные TXT) 📗
Конечно, неплохо! Ведь радуемся же мы с вами столь же неизменным победам мушкетеров Александра Дюма!
Но давайте попробуем пойти немного дальше. Давайте зададим себе еще несколько вопросов:
— А разве плохо было бы, если б и в других знаменитых книгах, ну хоть о той же гражданской войне, все кончалось бы благополучно? Например, если бы отряд Левинсона не попал в засаду, а ловко вышел бы из нее и ударил на врага с тыла?
Ведь тогда название фадеевского романа «Разгром» относилось бы уже не к нашим, а к врагам — колчаковцам и японским интервентам. И что, если бы Чапаев не потонул в тяжелых волнах Урала, а продолжал громить беляков? Или если бы в «Школе» Гайдара партизан Чубук не погиб, да еще по вине Бориски Горикова? Если бы тот же Бориска, как какой-нибудь «красный дьяволенок», сумел бы всех перехитрить и вызволить Чубука?
Да еще взорвать вместе с ним белый штаб?..
Спросим себя еще и вот о чем:
— Неужели, если бы все эти книги кончались так, как мы это себе вообразили, случилась бы какая-нибудь беда? Неужели от этого хоть что-нибудь изменилось бы в жизни и судьбе их читателей?
Да. Изменилось бы. И не «хоть что-нибудь», а очень многое.
Не исключено даже, что жизнь кое-кого из этих читателей могла повернуться иначе. Тяжкие испытания, доставшиеся им, могли бы оказаться непосильными для их неокрепших душ.
И кто знает! Может, иная душа сломалась бы под этой тяжестью. С ней произошло бы примерно то же, что случилось с душой Павла Мечика, героя фадеевского «Разгрома». Ведь падение Мечика, если помните, началось как раз с таких «пустяков»:
«В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.
Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.
Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди...»
Весь путь Мечика и постыдный конец этого пути говорит о том, какая беда может случиться с человеком, особенно молодым, если слишком глубокой окажется пропасть между его книжными представлениями о жизни и ею самой, суровой, не прикрашенной.
— Да! А как же Кульчицкий? — вполне может возразить нам придирчивый читатель. — Вы же сами говорили: его книжные представления о войне тоже ведь сильно отличались от того, что он увидел своими глазами. Но это же не помешало ему стать настоящим солдатом!
Что ж, это верно. Кульчицкий хорошо воевал и пал смертью храбрых. Но, во-первых, человека воспитывают не только книги, но семья, общество. А во-вторых, Кульчицкий — это видно по его стихам — еще до того, как побывал в бою, уже ясно сознавал, что «война совсем не фейерверк».
Вот что писал Кульчицкий за два года до начала Отечественной войны: «Военный год стучится в двери». И предвидел собственную судьбу: «На двадцать лет я младше века, но он увидит смерть мою».
Не хуже Кульчицкого это знали и его товарищи. Когда читаешь довоенные, часто еще не очень умелые стихи молодых поэтов, павших в боях с фашизмом, то и дело натыкаешься на строчки, исполненные ясного предчувствия своей судьбы:
Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы...
Так сказал о себе товарищ Кульчицкого — Николай Майоров. А вот что писал еще один их сверстник, Павел Коган:
Мы, лобастые мальчики невиданной революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать — поэты и урки,
В двадцать пять — внесенные в смертные реляции,
И еще — о «мальчиках невиданной революции»:
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее...
Все эти пророчества сбылись. Вот разве что до речки Шпрее дойти удалось не всем. Кто пал на Волге, под Сталинградом. Кто неизвестно где. Как писал тот же Павел Коган:
Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь...
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть ванналы,
И даже близким славы не сыскать.
Как же вышло, что безусые юнцы, едва вставшие со школьной скамьи, уже прекрасно знали, что ждет их самих и их страну? А главное, чем объяснить, что они не только догадывались о суровых испытаниях, через которые им предстояло пройти, но и оказались к ним готовыми? Этому много серьезнейших причин, и не последняя среди них — книги.
Да, нравственный облик этих юношей был сформирован и теми книгами, которыми они зачитывались в детстве. Они оказались подготовленными к героической борьбе и потому, что в их детстве были не только «Красные дьяволята». Был «Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Школа» Гайдара.
Герой гайдаровской «Школы» — подросток примерно того же возраста, что и герои «Красных дьяволят». Как и «дьяволята», он пробирается на фронт, чтобы воевать с белыми.
Доверчиво рассказывает он о своих планах первому попавшемуся встречному. Но тот оказывается не тем, за кого выдавал себя. И Борис Гориков получает первый жизненный удар. Удар в буквальном смысле: дубинкой по голове.
С трудом очнувшись, он видит над собой холодный взгляд спутника и дубинку, которой тот вот-вот его прикончит.
«Тук - тук... — стукнуло сердце. Тук - тук... — настойчиво заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан маузер.
Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохранитель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего, затем, чтобы с разбега еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека.
Я видел, как внезапно перекосилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск».
И вот в этот момент, когда действие достигло наибольшей драматической напряженности, когда читатель с лихорадочной поспешностью стремится узнать, кто кого, и мчаться, не задерживаясь, дальше, — именно тут автор, будто назло читателю, прибегает, как говорят в кино, к замедленной съемке. На не сколько страниц разворачивает он описание того, что в действительности заняло какую-то долю секунды.
Враг застывает с дубиной в руке, приготовившись к прыжку, а мы... мы напряженно прислушиваемся к стуку сердца Бориса, мы вместе с ним изо всех сил сжимаем в руке нагретую рукоятку маузера. И странно! Мы вовсе не торопимся. У нас вовсе нет желания поскорее перевернуть страницу и узнать, чем кончилось. Со всей остротой и непосредственностью, на какую мы только способны, мы переживаем душевное состояние героя, впервые ощутившего всю серьезность своих поступков: