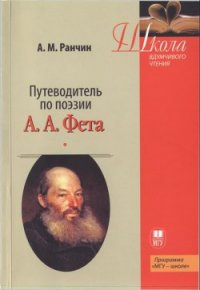«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Пушкинский образ текущих из-под пера стихов подвергнут Бродским ироническому «переписыванию»: из-под пера бежит речь, которая звучит, а не записывается. И потому высказывание «речь бежит из-под пера» является логически неправильным. Пушкинский образ как бы самоотрицается, взрывается изнутри. Соотнесенность с «Осенью» устанавливается еще раньше, в первой строке: «Октябрь. Море поутру / лежит щекой на волнорезе» (II; 158). Пушкинский текст начинался словами «Октябрь уж наступил» (III; 246) [426]. Упоминание о Черном море соотносит стихотворение Бродского (оно было написано в Коктебеле) с пушкинским «К морю», посвященным также Черному морю и навеянным крымскими впечатлениями. Биографии двух поэтов в этом произведении Бродского оказываются соотнесенными.
Переписывание строк из «Осени» соседствует с полемической метаморфозой, которой подвергся постоянный мотив пушкинской поэзии — мотив пира, праздника жизни. Также полемически цитируется пушкинский «Пророк». Ироническое сравнение лирического героя с беркутом восходит, несомненно, к пушкинским строкам: «Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы» (II; 304).
Скрип пера у Бродского (как и у Ходасевича, из поэзии которого автор «Пятой годовщины <…>» и «Эклоги 4-й <…>» заимствует этот образ) свидетельствует, что поэзия еще не поддалась, не уступила смерти. У Пушкина же скрип пера обозначает кропотливый, но бездарный труд бесталанного стихотворца: «Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет / И, перьями скрипя, бумаги не жалеет» («К другу стихотворцу» [II; 25] [427]).
Пушкинские слова о пере, просящемся к бумаге, повторены в стихотворении Бродского «Строфы» («Наподобье стакана…») (1978): «бегство по бумаге пера» (II; 458). Иронически переиначены они в стихотворении «Полонез: вариация» (1982): «А как лампу зажжешь, хоть строчи донос / на себя в никуда, и перо — улика» (III; 65). Возвышенное слово «стихи» вытесняется низменным «доносом».
Перекликается с пушкинской «Осенью» и стихотворение «Колыбельная» (1964). Здесь упоминаются пальцы, лист и строки, но перо не упомянуто:
Лампа у Бродского соответствует камельку (камину) в пушкинской «Осени», и этот образ, связанный с мотивом творчества, повторяется в нескольких стихотворениях. Лампа есть и в «Эклоге 4-й (зимней)»:
Заключительные строки пушкинской «Осени» варьируются также в стихотворении «Одной поэтессе» (1965), но образа пера здесь также нет:
«Серьезная» цитата из «Осени» («по рукам бежит священный трепет») выдержана в романтическом стилевом ключе и потому более «классична», чем более прозаичная пушкинская строка «пальцы просятся к перу» [428]. Она воспринимается как аллюзия не на конкретный, единичный текст, но на романтическую поэзию в целом. Эта реминисценция соседствует с шутливо переиначенной строкой из «19 октября» (1825 г.). У Пушкина:
Стих «Служенье Муз чего-то там не терпит» должен свидетельствовать о забывании пушкинской строки лирическим героем. Но одновременно это и высказывание самого автора, подчеркивающее хрестоматийную известность пушкинского текста. Пушкинская строка для Бродского по существу уже не индивидуальное речение, но языковое клише. Читатель мгновенно восстанавливает правильный, исконный облик пушкинской строки и радуется легкому узнаванию слов, памятных с детства. Пушкинские тексты воспринимаются как знаки всей высокой классической поэзии. Такое восприятие реминисценций из «Осени» и «19 октября» (1825 г.) задает уже первая строка стихотворения «Одной поэтессе»: «Я заражен нормальным классицизмом» (II; 246). «Классицизм» в этом стихотворении — не стиль европейской литературы XVII и XVIII столетий, а синоним слова «классика». Бродский не случайно обращается в этом стихотворении именно к «Осени» и «19 октября» (1825 г.): оба пушкинских произведения открываются описанием октябрьского дня, посеребренного инеем поля, деревьев, отряхивающих с ветвей багряную листву.
Поэзия Пушкина для Бродского — точка отсчета, исходная норма, квинтэссенция словесности как таковой. Но не предмет для подражания. Выражая совсем не пушкинское отношение к миру и к поэтическому творчеству, Бродский прибегает к художественному языку автора «Осени» и «Медного Всадника». Спор с Пушкиным для Бродского — в каком-то смысле всегда диалог, в котором оба поэта говорят на одном, но не на одинаковом языке. И этот диалог свидетельствует, что созданное Пушкиным художественное пространство остается для автора «Шествия» и «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» поэтической родиной, даже когда Бродский незаконно переходит его границы или нарушает установленные правила литературного приличия.
4. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…»: поэзия Бродского и «Медный всадник» Пушкина
В 1975–1976 годах Бродский написал поэтический цикл «Часть речи». В нем есть стихотворение, открывающееся такими строками:
Эти строки — отголосок, эхо пушкинских стихов, которыми начинается вступление к «петербургской повести» «Медный Всадник»:
Называя место собственного рождения, Бродский заявляет о принадлежности к петербургской культуре, объявляет себя русским европейцем. Цитируя всем памятные пушкинские строки, он вписывает свое стихотворение в «петербургский текст» — долгий и величественный ряд произведений русской литературы, посвященных «граду Петрову», пронизанных и просветленных общими смыслами, постоянно цитирующих и окликающих друг друга [429]. У истоков «петербургского текста» находится именно «Медный Всадник». Пушкин создал образ города, главные черты которого были унаследованы и отражены другими авторами, писавшими о Петербурге. Отнесение строк о Петре, которыми открывается вступление к «Медному Всаднику», к лирическому герою Бродского — поэту, вероятно, навеяно подобной трансформацией, прежде совершенной Пастернаком: Пастернак в стихотворении «Вариации. 2. Подражательная» описал словами из вступления к «Медному Всаднику» самого Пушкина [430].