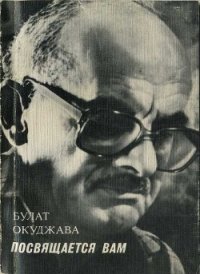Красные бокалы. Булат Окуджава и другие - Сарнов Бенедикт Михайлович (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
Вспомнил и рассказал я ее с прямо противоположной целью. Хотел сказать, что власть над нами долгие годы давившего нас мистического страха нынче уже не та: таинственные лучи потеряли свою магическую силу.
А сейчас попробую взглянуть на ту же коллизию с другого бока.
В этом мне поможет короткий отрывок из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»:
...
Я оглядел дом и двор. <…>
На веревке, протянутой вдоль веранды дома, сушились огненные связки перца и темно-пунцовые сосульки чурчхели. У крыльца, ведущего в горницу, был разбит палисадничек, где цвели георгины, вяло пламенели канны, золотились бархатки.
Два рыжих теленка, помахивая хвостами, паслись во дворе. Процессия индюшек во главе с зобастым, клокочущим, похожим на распахнутый аккордеон индюком прошла в сторону кухни. За забором, ограждающим двор, зеленела кукуруза с крепкими, уже подсыхающими початками на каждом стебле. Сквозь листья тутовых и алычовых деревьев, разбросанных на приусадебном участке, далеким греховным соблазном детства темнели виноградные гроздья.
И вдруг мне почудилось, что скоро я больше никогда не увижу ни этого дыма над абхазской кухней, ни этого сверкающего зеленью травы дворика, ни этой кукурузы за плетнем, ни этих деревьев, притихших под сладкой ношей созревшего винограда. Все это для меня кончится навсегда. Томящая тоска охватила мою душу. <…>
Я взглянул на дядю Сандро и понял, что именно он виновник моих тоскливых предчувствий. Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику.
– Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Мне страшно, дядя Сандро, – сказал я ему откровенно.
– Чего ты боишься? – спросил он у меня.
– Ох, и попадет мне, дядя Сандро, ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! – воскликнул я.
– Мою жизнь? – повторил он с обидчивым недоумением. – Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной.
– Попадет, – повторил я… – хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это!
– Глупости, – сказал дядя Сандро, пожимая плечами… – Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать. <…>
– Ах, дядя Сандро, – сказал я, – они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне!
– Заладил! – перебил меня дядя Сандро. – Что, КГБ боишься?
– Да, – застенчиво признался я ему.
– Ты прав, КГБ надо бояться, – сказал дядя Сандро, подумав, – но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди. Они сами ничего не решают. Это раньше они сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом. <…>
– Что потом? – не выдержал я.
– Потом они спрашивают у партии, – отвечал дядя Сандро, – а там, внутри партии, сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты. По разным отраслям. И вот человек из органов спрашивает у них: «Мы задержали такого-то. Как с ним быть?» А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает: «Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пуганите его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем два года, – могут просто по телефону сказать.
– Да мне-то от этого не легче, как они там решают, – сказал я, – страшно, дядя Сандро.
Мудрый дядя Сандро вроде бы высказывает ту же мысль, какую хотел выразить я своим рассказом о моей беспечной реакции на звонок оттуда. Да, времена уже не те, кое-что действительно изменилось. Но к тому, что описавший его жизнь автор не в силах преодолеть свой страх перед КГБ, он относится не только с пониманием, он это даже одобряет: «Ты прав, КГБ надо бояться!» Только полный болван, не понимающий, в каком он живет царстве-государстве, может не бояться КГБ. И только наглый лгун может делать вид, что у него в душе не осталось и тени этого страха.
И тут, покопавшись в себе и припомнив кое-какие факты и обстоятельства, должен признаться, что таким болваном я все-таки не был.
Самым стыдным из этих припомнившихся мне фактов и обстоятельств было воспоминание о том, как я себя вел и что чувствовал, оказавшись в зале суда во время процесса над Синявским и Даниэлем.
Но тут надо сперва объяснить, как и почему я в том зале оказался.
С Синявским я тогда был знаком шапочно
(нас познакомил однажды в театре, в «Современнике», Аркадий Белинков), а Юлика Даниэля знал хорошо: он был близким другом Шурика Воронеля, с которым мы тогда подружились. Мы часто встречались в одних компаниях. Однажды после какого-то дружеского застолья Юлик даже прочел собравшимся свой рассказ про черного кота – самый, впрочем, невинный из всех его подпольных сочинений.
От Шурика я и узнал о том, что Андрей и Юлик арестованы: он примчался ко мне прямо из КГБ, куда его сразу же потянули в качестве свидетеля, поманил из комнаты на балкон и там шепотом сообщил потрясающую новость. Я спросил его, как он думает: что означает этот арест? Начало новой эпохи? Или это локальный, частный случай? Подумав, он ответил, что частный случай. По этому ответу я сразу понял, что Шурик знает больше, чем рассказал. Да и рассказ Юлика про секретаря райкома, по ночам превращавшегося в черного кота, тут мне припомнился.
А через несколько дней факт ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля, сочинявших пасквильные антисоветские произведения и публиковавших их на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, стал достоянием гласности. В «Известиях» появилась большая статья некоего Дмитрия Еремина (в справочнике Союза писателей он значился как прозаик, поэт и публицист, но до той известинской статьи я никогда не слышал этого имени) под названием «Перевертыши». Всем было ясно, из какого источника автор черпал материал для этой своей статьи. Точнее – КЕМ эта статья была ему заказана.
Позже статьи этого рода – о Сахарове, Солженицыне, Войновиче, Галиче, Владимове – стали появляться с известной регулярностью, жанр сложился, обрел некие канонические черты и даже получил в нашей среде определенную кличку: «лубянский пассаж».
Но статья Еремина «Перевертыши» была первой ласточкой. Как сразу было отмечено нашими старшими товарищами, она была состряпана в лучших традициях тридцать седьмого года. И это явно диссонировало с веяниями новой эпохи, разоблачившей злоупотребления Сталина и восстановившей, как тогда принято было говорить, «ленинские нормы партийной и государственной жизни».
Обо всем этом и заговорили некоторые смельчаки на писательском собрании, созванном буквально на следующий день после появления ереминской статьи. Резче всех об этом лубянском пассаже высказалась Любовь Кабо. Она прямо сказала, что от этой статьи на нее повеяло хорошо ей знакомым ароматом тридцать седьмого года.
И вот тут на трибуне появился Виктор Николаевич Ильин.
– Товарищи! – сказал он. – Вы все меня хорошо знаете. Знаете, что я и сам был жертвой тех… – он слегка запнулся, стараясь найти подходящее слово, и тотчас же его нашел, – тех перегибов партийной линии, которые имели место в тридцать седьмом году. Тогда, как вы знаете, репрессиям подвергались ни в чем не повинные люди, честные коммунисты. А тут… У меня в сейфе лежат пасквильные сочинения упомянутых перевертышей. Каждый желающий может зайти ко мне и ознакомиться, чтобы лично, так сказать, убедиться, что тут нет никакой липы…