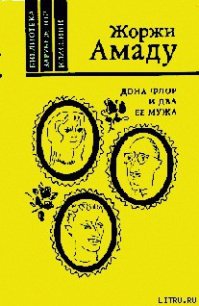«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа - Кузнецов Феликс Феодосьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
С течением времени метафоричность романа становится строже.
Как справедливо заметил исследователь творчества Шолохова В. Гура, чрезмерность метафорической образности исчезает в третьей книге романа. «Придавая работе над языком огромное значение, — писал он, — Шолохов вносил во многие издания романа (большей частью в первые книги) значительные исправления, добиваясь простоты, ясности, точности слова. Он беспощадно вычеркивал из текста надуманные фальшивые выражения, на которых лежала печать вычурности и красивости. (“Ветер шуршал, перелистывая зеленые страницы подсолнечных листьев”; “спокойный голос его плеснул на Аксинью варом”; “ставни дома наглухо стиснули голубые челюсти”; “розовым бабьим задом из-за холма перлось солнце”; “ночь захлеснулась тишиной”; “время помахивало куцыми днями” и т. д.). Опускаются целые напыщенно-витиеватые сравнения: “словно кто-то неведомо большой изредка смежил оранжевые трепещущие ресницы” и т. д.»33.
Но это не значит, что в трех книгах романа Шолохов отказался от органично присущей ему яркой метафоричности. Третья книга «Тихого Дона» завершалась, как известно, тем, что Мишка Кошевой зажег подряд семь домов, принадлежащих купцам, священникам и зажиточным казакам Татарского.
«Выехал на бугор, повернул коня. Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя...» (4, 434).
Нет нужды доказывать, что подобный характер образности совершенно чужд Крюкову. Но он пронизывает «Донские рассказы», «Тихий Дон» и «Поднятую целину», на первой книге которой — та же печать орнаментализма. И то же влияние «рубленой прозы»: «...Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова» (6, 41) — описание боя, в котором в декабре 1918 г. принимал участие Андрей Разметнов.
И та же инверсия:
«Февраль...
Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце... Курганы в степи — как переспелые арбузы — в змеистых трещинах» (6, 110).
В «Поднятой целине» ощутимо и влияние «ритмической прозы»:
«Предрассветная синяя тишина.
Меркнет пустынный Млечный Путь.
В темных окнах хат багрово полыхающие зарева огней: отсвет топящихся печек.
На речке под пашней хрупко позванивает лед.
Февраль...» (6, 110).
Та же напряженная экспрессия троп. Роман открывается описанием того, как «по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь» (6, 7). Далее — описание приезда Половцева:
«Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим светом» (6, 8).
Сравните:
«На западной окраине неба тускло просвечивали звезды, молодой согнутый сагайдаком месяц золотой насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба» (6, 322).
ФОЛЬКЛОР, КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ
Орнаментализм в прозе — это еще и уход от книжности, поворот к живому народному слову, «языку улицы».
«Я хочу, — писал А. Веселый, — чтобы само слово говорило, чтобы оно пело, сверкало разными красками, чтобы не было никакой книжности, а была бы живая речь...»34.
Исследователи литературы 20-х годов сходятся на том, что проблема языка, речи в этот период отечественной истории и литературного развития выходит на первый план; повышается значимость именно народного слова. Фольклор, диалект в полную меру завоевывают свои права.
«В революционную эпоху, — пишет Н. В. Драгомирецкая, — писатели как нельзя более остро почувствовали необходимость заново припасть к вечно живому роднику народной речи, овладеть стихией живого звучащего слова, заговорить в книге языком самих масс... <...> В литературу неудержимо хлынул поток просторечных слов, диалектизмов, неологизмов, форм народной этимологии, речевых конструкций с разговорным синтаксисом, с разнообразием живых разговорных интонаций, вопросительных, восклицательных, песенных, сказочных, часто повышенной эмоциональной экспрессивности»35.
После революции, в 20-е годы литература, в большей степени, чем когда бы то ни было ранее, заговорила языком народа, а еще точнее — через литературу заговорил трудовой народ. В лице в первую очередь Есенина и Шолохова он обрел, наконец, свои уста.
Принципиальная особенность «Тихого Дона», отличающая его не только от рассказов Крюкова, что очевидно, но и от многих других произведений русской литературы, — насыщенность фольклорными мотивами в самых разнообразных проявлениях. Это выражало не только личную устремленность Шолохова, но и время — эпоху 20-х годов.
Проблема фольклора в «Тихом Доне» имеет прямое отношение к прояснению его авторства.
Фольклор в этом романе не носит книжного характера, его источник — не фольклорные сборники и словари, не труды собирателей и исследователей народного творчества, но непосредственное народное творчество, бытовавшее в повседневной жизни. Причем это не просто русский фольклор, это — казачий фольклор, обладающий строго очерченным ареалом своего жизненного существования.
Россия — одна из немногих стран в мире, где фольклор как живое творчество народа сохранил себя и по сей день. Еще в середине XX века, в 50—60-е годы, Александр Яшин на повседневном материале жизни своего родного Никольского района Вологодской области написал рассказ «Вологодская свадьба», в основе которого — свадебный обряд этих мест, а фольклорист, впоследствии известный исторический писатель Дмитрий Балашов в соседнем Тарногском районе Вологодчины, где я родился, записал этот свадебный обряд, как он сохранился до наших дней. В соавторстве с Ю. И. Марченко и Н. И. Калмыковой он опубликовал книгу «Русская свадьба»36, где доказал, что свадебный обряд Кокшеньги, что в Тарногском районе Вологодской области, куда когда-то пришли новгородцы, — полностью сохранил обрядовую традицию Великого Новгорода. Яшин написал свой рассказ до книги Дмитрия Балашова и не по его фольклорным записям, а исходя из того личностного опыта, который давал ему родной край, его язык, былины, песни, близкие фольклору юга России, прежде всего, казачества. Исследователями давно отмечена особая близость былинного и песенного фольклора Севера и казачьих областей России37.
Работая над «Тихим Доном», Шолохов обращался к фольклору, прежде всего — к казачьей песне. Современники свидетельствуют, что писатель знал немало старинных казачьих песен и сам их исполнял. Эти песни любила петь вся шолоховская родня. Современников поражало в Шолохове не только то, что он «отлично знал историю, быт, культуру, привычки и нравы казаков — он сам органически жил в стихии культуры и быта казачества»38.
Обращался Шолохов и к фольклорным записям, сборникам казачьего фольклора, записанного еще в XIX веке. К. Прийма в книге «С веком наравне» свидетельствует, что в 1974 году в станице Вёшенской Шолохов рассказывал ему о сборниках «Донские казачьи песни» А. Пивоварова (Новочеркасск, 1885), «Сборнике донских народных песен» А. Савельева (СПб., 1886), которые он изучал, работая над романом «Тихий Дон»39.
Макаровы оспорили это свидетельство К. Приймы и в свойственной им грубой манере безапелляционно заявили: «...Шолохов не только плохо знал историю казачества, но и дезинформировал своих собеседников — книги, на которые указано как на источник песен в “Тихом Доне”, Шолохов не читал»40.
Но обратимся и мы к сборникам А. Савельева и А. Пивоварова (чего не сделали, видимо, Макаровы, в силу того, что эти сборники давно стали библиографической редкостью) и, опираясь на другие свидетельства писателя, проверим документально слова К. Приймы, опровергаемые «антишолоховедами».
Мы уже ссылались на письмо Шолохова Левицкой от 4 июля 1932 года:
«Меня очень прельщает мысль написать еще 4 книгу (благо из нее у меня имеется много кусков, написанных разновременно, под “настроение”), и я, наверное, напишу-таки ее зимою... Ну, да об этом еще будет у нас разговор. Надо же мне оправдать давным-давно выбранный для конца эпиграф. Я его Вам читал, и он так хорош, что приведу его еще раз: