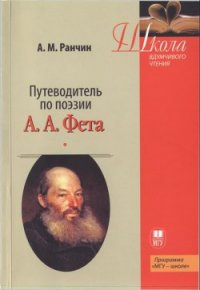«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Иногда цитатный характер высказывания маскируется благодаря отличиям как в плане выражения, так и в плане содержания. Стихи «И внезапная мысль о себе подростка: / „выше кустарника, ниже ели“ / оглушает его на всю жизнь. <…>» («Эклога 5-я (летняя)» [III; 38]) — аллюзия на параллель «молодые сосны — молодое поколение» в пушкинском «…Вновь я посетил…». Но выявление этой реминисценции требует пристального чтения: текстуального сходства здесь нет, пушкинский мотив подвергся «переворачиванию» (не параллель, а контраст). И только это «переворачивание» и значимо для автора «Эклоги <…>».
Безусловно сходство строк Бродского «Мир больше не тот, что был // прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, / кушетка и комбинация, соль острот» («Fin de siècle», 1989 [III; 191]) со стихами Арсения Тарковского:
В обоих текстах перечисляются старые вещи — знаки ушедшей эпохи; лампам-«молниям» Тарковского соответствует «абажур» лампы у Бродского.
Но при этом Бродский, во-первых, не воспроизводит фрагментов текста Тарковского (что необходимо для цитаты в собственном смысле слова), а во-вторых, соотнесенность с «Вещами» не привносит в текст Бродского новой семантики, кроме восприятия строк «Fin de siècle» как вариации уже когда-то сказанных слов.
Другой пример — стихотворение «Итака» (1993). Во-первых, «Итака» соотнесена с «Улиссом» Джойса, но это сходство ситуаций и мотивов, а не означающих [114]. При этом соотнесенность с джойсовским текстом не открывает в стихотворении новые смысловые измерения, а лишь подает его как текст вторичный: Бродский читает «Одиссею» вслед за Джойсом и так же, как Джойс. «Цитируется» не джойсовский роман, а его код [115].
Во-вторых, строки из последней строфы «Итаки»: «То ли остров не тот, то ли впрямь, залив / синевой зрачок, стал твой взгляд брезглив» (III; 232) — перекликаются со стихом Асеева «Синий глаз бессонного залива» («Заржавленная лира», I) [116]. По своей поэтике это стихотворение не похоже на «Итаку» [117], и соотнесенность с ним не обогащает текст Бродского семантически. Но в обоих совпадает образ залитого синевой зрачка залива. У Бродского залив — деепричастие от глагола «залить», однако соседство со словом-существительным «остров» и enjambement, отделяющий «залив» от зависимых слов «синевой зрачок», побуждают отнести его к существительным [118].
В принятой терминологии этот пример, скорее всего, нужно интерпретировать или как заимствование, или как случайное совпадение. Обыгрывание омонимической пары «залив — залив» встречается и у Пастернака в стихотворении «Петербург»: «Когда на Петровы глаза навернулись, / слезя их, заливы <…>» [119].
Но у Бродского очень много и других совпадений с фрагментами «чужих» текстов. И эти совпадения, если их рассматривать как цитаты, часто не привносят в новый контекст семантики текста-источника. Лишены они и такого формального и достаточного признака цитаты, как точность воспроизведения цитируемых слов. При опознании их как реминисценций «включается» сложный семиотический механизм: поэтическое высказывание Бродского читающий соотносит с произведением другого автора, после чего выясняет, что это не классический случай цитаты, а «повтор» мотива, ситуации, образа — недостаточный, чтобы стать явной реминисценцией, но и не случайный, так как соотнесенные элементы не относятся к «общим местам», литературным топосам. Значимым оказывается не сообщение, заключенное в цитате, но сам код — установка на повторение, на «готовое слово», к которому прибегает поэт [120].
Вот примеры такого рода.
Строка «города рвут сырую сетчатку из грубой ткани» из стихотворения Бродского «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (III; 142) перекликается с мандельштамовской метафорой «Разорвав расстояний холстину» («Средь народного шума и спеха…») [121]; в обоих текстах метафорика ткани приобретает значение, связанное с расстоянием, — у Бродского с затерянностью в пространстве, у Мандельштама — с преодолением расстояния. Сравнение в этом же стихотворении Бродского мысли об умершей матери с разжалованной прислугой («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…») сходно с образом из романа Пруста «Содом и Гоморра»: ушедшая из жизни бабушка Марселя «с униженным видом старой служанки, которую прогнали» [122].
Орган восприятия, на котором фиксируется внимание Бродского, — сетчатка: «На сетчатке моей — золотой пятак. / Хватит на всю длину потемок» («Римские элегии», 1981 [III; 48]); «города рвут сырую сетчатку из грубой ткани» («Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» [III; 142]); «и капля, сверкая, плывет в зенит, // чтобы взглянуть на мир с той стороны кулисы» («Памяти Клиффорда Брауна», 1993 [IV (2); 131]). В поэзии Мандельштама сетчатка — также метонимическое обозначение органа зрения, глаза: «Больше светотени! / Еще, еще! Сетчатка голодна!» («Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой…»), «И своими косыми подошвами / Луч стоит на сетчатке моей» («Стихи о неизвестном солдате») [123]. Совпадение между «Римскими элегиями» и «Стихами о неизвестном солдате» может быть прочитано как полемическое переписывание мандельштамовского образа: в «Стихах о неизвестном солдате» изображается апокалиптическая картина последней войны, свет — если не губительный, то тревожный. Бродский же пишет об успокоении, об умиротворяющей причастности культуре Вечного Города, «золотой пятак» — метафорическое именование солнца. Впрочем, образ золотого пятака на сетчатке в «Римских элегиях» также наделен коннотативным значением, связанным со смертью, — «монета, которая кладется на глаза умершему».
Строки:
сближаются с выражением «рыданье аонид» (редким, хотя и встречающимся в русской поэзии пушкинской поры) из стихотворения Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать…» [124]. При интерпретации строк Бродского как цитаты выражение «хор Аонид» приобретает дополнительный оттенок смысла — «плач Аонид»; стихотворение Бродского и является таким плачем по потерянной любви.
Сходными оказываются ситуации, описываемые Бродским и другим автором: герой в саду, смотрящий на играющих детей и ощущающий свою отчужденность от них в стихотворении «Сидя в тени» Бродского, напоминает Лео Фишера, испытывающего похожие чувства, в «Человеке без свойств» Р. Музиля (ч. 2, гл. 102). «Голубой саксонский лес» (стихотворение «В горах», 1984 [III; 83–89]) — своеобразная вариация образа из текста музилевского романа. Денотативное значение «голубого саксонского леса» — «горный лес», коннотативное — «фарфор», «фарфоровый лес», «мертвенность». На фоне этого леса в тексте Бродского представлены лирический герой и женщина. В «Человеке без свойств» о метафорическом лесе, олицетворяющем безжизненность, говорит женщина, Агата, мужчине, брату Ульриху: «Это было как лес, где деревья из гипса!» (ч. 3, гл. 5) [125]. Но у Музиля гипсовый лес означает мертвенность человеческого духа, пустоту социального существования, а у Бродского фарфоровый лес ассоциируется с искусственностью бытия в целом, с не-существованием. Этот образ из стихотворения «В горах» перекликается также с пастернаковскими «пнями и корягами, и кустами», как бы изваянными из гипса («После вьюги») [126]. Тексты двух поэтов сближает также то, что в обоих случаях представлен зимний пейзаж. Однако у Пастернака «скульптурные» коннотации имеют противоположный смысл: они связаны с инвариантным для его творчества мотивом «великолепия мира» [127].