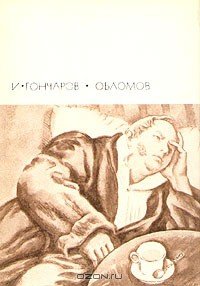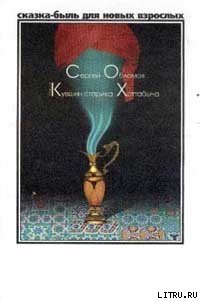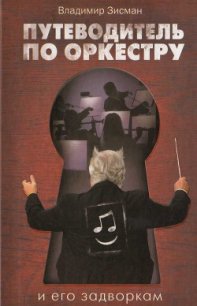Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту - Недзвецкий Валентин Александрович
Фельетонист и очеркист Пенкин по роду своих занятий — писатель и в этом звании как будто имеет право пребывать в одном ряду с Пушкиным, Гоголем и самим Гончаровым. Сверх того, он, по его словам, «пуще всего <…> ратует за реальное направление в литературе» (с. 24). Смысл литературного реализма, по Пенкину, однако, проясняет та, как полагает он, «великолепная поэма» под названием «Любовь взяточника к падшей женщине», которую он усиленно рекомендует для прочтения Обломову. В «великом» авторе этой «поэмы» Пенкину «слышится до Дант, то Шекспир» (с. 25). На деле же Гончаров таким образом пародирует одновременно как мелкотравчатую «обличительную» литературу в России начала шестидесятых годов XIX века, так и жанр «физиологических» очерков, широко распространенный в русской «натуральной школе» середины годов 40-х, когда начинается действие в «Обломове». Непосредственным объектом для пародии стал изданный Н. А. Некрасовым и В. Г. Белинским двухтомный сборник «Физиология Петербурга» (1845).
Представляя в анонимной рецензии («Литературная газета», 1845, № 13) сборник публике, Некрасов так определял его задачи: «…Раскрыть все тайны нашей общественной жизни, все пружины радостных и печальных сцен нашего домашнего быта, все источники наших уличных явлений; ход и направление нашего гражданского и нравственного образования; типические свойства всех разрядов нашего народонаселения…» [41]. В «поэме» «Любовь взяточника…», говорит Пенкин, «обнаружен весь механизм нашего общественного движения <…>. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны…» (с. 24). «…Твой взгляд, — говорил Некрасов о „Физиологии Петербурга“, — очень наблюдателен и дальновиден; твое чувство — очень верно и неизменчиво; твой юмор меток и желчен» [42]. «…Верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, — точно живым и отпечатают» (с. 25), — вторит составителю «Физиологии…», говоря о сочинениях нынешних «реалистов», Пенкин, заявляющий: в литературе «нам нужна одна голая физиология общества…» (там же).
В ответ на что «вдруг воспламенившийся» Илья Ильич в полном согласии с Гончаровым так оценивает пропагандируемый Пенкиным «реализм»: «А жизни-то и нет ни в чем: нет ее понимания и сочувствия, нет того, что называется гуманитетом. <…> Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! <…> Изображают они вора, падшую женщину <…>, а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство…» (там же).
Не способный и не желающий, как намекает сама его фамилия, проникать при воспроизведении «вседневной жизни» в ее человеческую сущность, Пенкин персонифицирует у Гончарова эпигонов литературной методы Н. Гоголя, усвоивших лишь ее «внешние признаки, без того глубокого поэтического элемента, которым обладал <…> создатель школы» [43]. Что вело к искажению реальности и к дегуманизации изображаемых лиц.
«Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?» — задавался вопросом Илья Ильич в итоге встречи со стереотипным и суетным («Мне еще в десять мест», — сообщает он Обломову) посетителем модных петербургских домов Волковым (с. 20). «А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства…», — резюмирует Илья Ильич свои впечатления и от чиновника-карьериста Судьбинского, являющего собой иной массовый, но столь же стандартизированный отряд петербуржцев и россиян в целом. «Человека, человека давайте мне!» — воскликнет Обломов в ответ на прокламируемую Пенкиным подмену человеческой личности в литературе ее чином, званием, мундиром, родом занятий и т. п.
И это восклицание Ильи Ильича, возрождающее в памяти знаменитое «Человека ищу!» Диогена Синопского (Диогена «в бочке», этими словами пояснявшего обывателям античной Греции, почему он ходит днем с фонарем), раскрывает нам то важнейшее качество заглавного героя «Обломова», которое не могло выявиться в его отношениях с Захаром. В отличие от своих визитеров, будь то обычный петербургский дворянин, чиновник и даже модный литератор, Илья Ильич — герой с осознанным личностным началом и такими же запросами. Человека, почти гневно отвечает он «физиологу» Пенкину, нельзя извергнуть «из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия» (с. 26). Другими словами, невозможно ограничить лишь его социально-сословным, профессиональным и служебным положением; он — создание всей человеческой и естественной истории, самого Творца. Подлинная «норма» человека поэтому не в нивелировке его индивидуальности, а в ее гармоничности, т. е. полноте, целостности и цельности, а также свободе от антигуманных общественных обстоятельств. Ибо именно эти свойства и превращают человека в полноценную личность, дорогую для главного героя «Обломова» ничуть не меньше, чем для самого Гончарова. Иное дело — сможет ли сам Илья Ильич, обладающий задатками такой личности, всемерно развить и обогатить их или же, напротив, уступит с годами пассивным и косным началам своей натуры.
«Он, — говорит романист в конце сцены Обломова с Судьбинским, — испытал чувство мирной радости, что он с десяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению» (с. 23). «Он, — цитировали мы ранее другую самооценку Ильи Ильича, — не какой-нибудь исполнитель чужой, готовой мысли; он сам себе творец и сам исполнитель своих идей» (с. 54). Действительно, Обломов весьма скоро разочаровался в чиновничьей службе, нераздельной с запретом «сметь свое суждение иметь» (А. Грибоедов), а то и с прямым пресмыкательством перед начальством (ведь «есть же такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного <…> видят не только почтение к себе, но даже и ревность, а иногда и способности к службе». — С. 48), и этот факт, как и его самостоятельный план преобразований своего деревенского имения, говорят в пользу Ильи Ильича. Но могли ли его оригинальные идеи увенчаться практическими результатами при постоянном пребывании этого героя на диване («Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову и обдумывает, не щадя сил…» — С. 54)? Понятно, нет. Это объясняет ту авторскую иронию в отношении к Илье Ильичу, которой в начальной части романа не лишен и самый показ его человеческого превосходства над его визитерами. Окончательный характер связи-«сцепления» между ними и Обломовым поэтому прояснится лишь с обрисовкой свойственных всем им «образов жизни», но об этом речь пойдет в следующей главке данного раздела. Пока же очевидно одно: Илья Ильич противопоставлен своим безликим гостям в качестве человека несомненно оригинального, хотя и со слабой, уступчивой волей.
Последняя черта героя проясняется с появлением в его квартире нового посетителя — Тарантьева. Оно мотивировано иначе, чем визиты предшественников: если те — бывшие петербургские приятели или сослуживцы Обломова, то Тарантьев приходит к нему на правах его «земляка» (с. 36), каковым является вместе с хорошо ему известными, но активно нетерпимыми Захаром и Андреем Штольцем, со своей стороны также Тарантьева не жалующими (оскорбляемый им Захар «злобно поглядывает на него», а Штольц позднее выговаривает Обломову, что он «пускает к себе это животное». — С. 33, 133).
Самим повествователем романа Михей (от др. — евр. «подобный богу Яхве») Андреевич (Андрей — от грен, «мужественный, храбрый») Тарантьев (по-видимому, от «тарана» — «бревна на весу, которое раскачивают и бьют им в стену») [44], вопреки, казалось бы позитивным смыслам его имени и патронима, аттестуется как «русский пролетарий» (в значении «бобыль, бездомок или безземельный, бесприютный, захребетник») [45], циник («Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном») и, наконец, «только теоретик», ибо, усвоив от своего отца, «провинциального подьячего старого времени» «тонкую теорию вершить по-своему произволу правые и неправые дела», Тарантьев умел применять ее лишь к «мелочам его ничтожного существования в Петербурге» (с. 33, 35, 34). Главные в авторской характеристике Тарантьева, эти мотивы дополнены указанием: «Он был взяточник в душе <…>, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, бог знает как и за что…» (с. 34).
41
Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1967. С. 96.
42
Там же. С. 97
43
Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1879. Отдел второй. С. 13.
44
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 380.
45
Там же. Т. 3. С. 493.