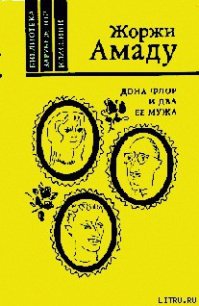«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа - Кузнецов Феликс Феодосьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
«НЕРАЗГАДАННОСТЬ СОКРОВЕННОГО»
Мы остановились так подробно на судьбе Филиппа Кузьмича Миронова по той причине, что эта трагическая судьба отнюдь не сторонняя «Тихому Дону». Драма Филиппа Миронова с полной убедительностью свидетельствует: «Тихий Дон» выразил объективную, реально существовавшую трагедию времени, суть которой — в противоречии между высокими лозунгами и идеалами революции и преступными путями их осуществления. Для того, чтобы написать «Тихий Дон» с его беспощадной правдой о трагедии «расказачивания» Дона, вовсе не обязательно было быть белым офицером. «Красный командир», а потом командарм Филипп Миронов бросал в лицо Ленину такие обличения «комиссаров» и «коммунистов», которые, возможно, не пришли бы в голову иному белому офицеру, вроде Крюкова или Родионова.
Соединение имени и судьбы Филиппа Миронова с подзаголовком «Тихий Дон в 1917—1921 гг.», вынесенным на титул книги «Филипп Миронов. Документы», закономерно и многозначительно. Более того, дело Миронова позволяет нам соотнести роман «Тихий Дон» с общей судьбой крестьянства в революции, которая была изначально трагичной.
Как уже говорилось, в беседе с литературоведом В. Г. Васильевым в июне 1947 года Шолохов подчеркивал: «В облике Мелехова воплощены черты, характерные не только для известного слоя казачества, но и для русского крестьянства вообще. Ведь то, что происходило в среде донского казачества в годы революции и Гражданской войны, происходило в сходных формах и в среде Уральского, Кубанского, Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Терского казачества, а также и среди русского крестьянства»61.
Подчеркнем еще раз: хотя Филипп Миронов, конечно же, не был в прямом смысле прототипом Григория Мелехова, судьба прославленного Командарма—2 была известна Шолохову и нашла отзвук в «Тихом Доне».
Драматизм конкретных человеческих судеб, как и трагедия казачества вообще, в полной мере открывшиеся Шолохову, когда он окунулся в материал, составивший основу его будущего романа, не могли не отразиться на мировидении и миропонимании молодого писателя. За кратчайший срок работы над романом «Тихий Дон» молодой писатель прошел стремительную школу не только художественного, но и духовного, идейного «взросления».
Если подходить к «Тихому Дону» с меркой Роя Медведева и искать ответ на вопрос, кто мог написать «Тихий Дон» анонимно, то совершенно очевидно: этот роман не мог написать белый офицер типа Листницкого; его не мог написать и комиссар из эпохи «военного коммунизма» вроде Малкина. «Тихий Дон» как он есть, в единстве его глубинных противоречий, мог написать только человек типа Филиппа Миронова, если бы, конечно, у него был соответствующий литературный талант.
Удивительно, как этого не почувствовал сам Рой Медведев, написавший вместе с С. Стариковым книгу «Жизнь и гибель Ф. К. Миронова» (М., 1989). Доверившись литературоведу Д*, Р. Медведев принял на веру фантасмагорическую гипотезу, будто «Тихий Дон» создавался в «четыре руки» — белым офицером (Крюков) и красным комиссаром (Шолохов), пытаясь таким, чисто механическим путем объяснить глубинные противоречия этого великого романа. Ни литературовед Д*, ни Р. Медведев не могли допустить, что противоречия «Тихого Дона» носят не внешний, механический, но глубоко диалектический, внутренний характер, что они могут жить в душе одного человека — гениального автора романа, выразившего трагические противоречия времени, — М. А. Шолохова.
Могут спросить: принадлежал ли Шолохов к подобному типу человеческой личности, был ли он близок к подобному мировидению и миропониманию?
Вопрос не простой, — как уже говорилось, в силу чрезвычайной закрытости, замкнутости Шолохова, его исключительной осторожности в высказываниях, где в откровенной или скрытой форме открывалась бы его мировоззренческая позиция. Тем не менее возможность прикоснуться к сокровенной позиции писателя есть. Она таится в одном из самых привлекательных и важных для Шолохова характеров, правда — в характере эпизодическом, как нам представляется, зашифрованном Шолоховым и до конца не прочитанном критикой. Речь идет о подъесауле Атарщикове. Вряд ли случайно именно с этим персонажем связана в романе тема «неразгаданности сокровенного» в человеке, перекликающаяся с приведенными выше наблюдениями Левицкой о «неразгаданности» самого Шолохова:
«Атарщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик» (1—2, 394). По мнению Шолохова, высказанному через Листницкого, «общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным», но «если с любого человека соскоблить верхний покров, то из-под него вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью, сердцевина» (3, 120).
Какова же «подлинная сердцевина» у Атарщикова? Какие «невысказанные размышления» вынашивал он, «наглухо запахивая непроницаемую завесу» от всех любопытствующих?
Образ подъесаула Атарщикова дан лишь эскизно. Но каждая из его черт, обозначенных в романе, важна и многозначительна, в его уста Шолохов вложил некоторые дорогие ему мысли. Поначалу сторонник Корнилова, Атарщиков так, к примеру, характеризует генерала: «Это кристальной честности человек...».
Но вспомним ответ Шолохова Сталину на вопрос о генерале Корнилове: «Субъективно, как человек своей касты, он был честен... Ведь он бежал из плена, значит, любил Родину, руководствовался кодексом офицерской чести...».
В портретной характеристике Атарщикова главное — «впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно-выжидающей усмешкой» (3, 107).
Вспомним характеристику самого Шолохова, которую дает ему Левицкая, «с его усмешкой (он усмехается часто даже тогда, когда “на душе кошки скребут”)»62.
Главное в характеристике Атарщикова в романе — «старинная казачья» песня о Доне-батюшке, которую на два голоса он поет в компании офицеров, и ночной разговор: «...Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — всё люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, — так глубоко и больно люблю... А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?..» (3, 112).
Понимая, что казаки «стихийно отходят от нас», что «революция словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся», — Атарщиков и думает, как преодолеть этот разлад; он «мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает казачье с большевистским» (3, 120).
В рукописи и журнальной публикации романа эта мысль была выражена с большой определенностью: Атарщиков «увязывает казачье-национальное с большевистским»63. За свой выбор Атарщиков поплатится жизнью, получив пулю от белого офицера у стен Зимнего...
За этой формулой о соединении большевистского с казачье-национальным, — к чему, как мы убедились выше, стремился и Филипп Миронов, — стояла мысль о соединении идеи революции с национальными интересами России, — мысль абсолютно непопулярная и даже крамольная в ту пору, потому что троцкизм с его теорией перманентной революции рассматривал революцию в России лишь как средство разжигания мировой революции.
М. Горький писал в «Несвоевременных мыслях», что революционные авантюристы относились к России, как к «материалу для опыта», им «нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грёзе о всемирной или европейской революции», относясь к России, «как к хворосту: “Не загорится ли от русского костра общеевропейская революция?”»64.
В «Тихом Доне» — в традициях русской общественной мысли — народ вообще и казачество в частности поставлены в центр мироздания, и революция — благо только в том случае, если она служит интересам народа, который в революции не средство, а цель. Народ в лице казачества предстает в романе как самоцельный и самодостаточный феномен, не как объект, но как субъект исторической жизнедеятельности.