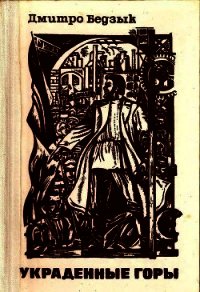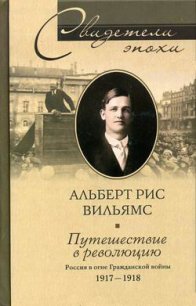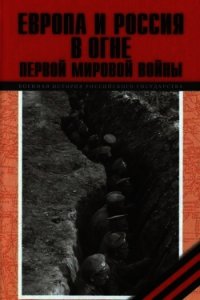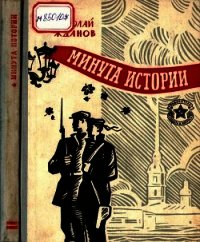Поэзия первых лет революции - Меньшутин Андрей (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но все растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался...99
а иные, берущие «курс» на предмет, в чуточку «сдвинутом», но остром, живом, «именном» образе -
Идем туда, где разные науки,
И ремесло - шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке100.
В период своего увлечения классицизмом Мандельштам выступал как противник «утилитарного» направления, «прикладного», предметного, «именного» слова и приверженность к последнему называл «революционным голодом», вкладывая в это определение пренебрежительный смысл. Позднее он сам признал, что такой «голод» оказался лишь полезным словесному искусству и способствовал поступательному движению современной поэзии, а поэтическую отвлеченность, унаследованную от прошлого и далекую от сегодняшнего дня, рассматривал как препятствие на пути стихотворной речи: «Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой»101.
Действительно, потребность в поэтическом языке, конкретном и точном, была остро ощутима в этот период, когда сама эпоха ждала от поэта, чтобы он назвал ее по имени и обозначил бы множество явлений, только что начинавших жить. Поэтому, например, в развитии стихотворной речи приобрела тогда особую важность литературная работа, непосредственно связанная с различными формами политической агитации. Помимо ряда других определяющих моментов, она отучала от отвлеченности, книжности, «красивости», воспитывала у поэтов привычку и навык мыслить по-деловому, оперируя не сложными иносказаниями, а живыми именами и названиями сегодняшнего дня. В этой области «назывательная» сторона речи выдвигалась на первый план, потому что сам материал и характер этой работы предрасполагал к точности, к прямому обозначению всех вещей их собственными именами. Здесь, естественно, могли получать развитие и символ, и аллегория, и метафора, и прочие формы поэтического языка. Но главенствовало «слово-название», прикрепленное к реальному событию, действию, факту и не допускающее двусмысленности и кривотолков. В стихотворном лозунге, зовущем на борьбу с Врангелем, последний должен быть назван, и никакое, самое блестящее поэтическое иносказание не может в данном случае избавить автора от необходимости строго следовать предмету, о котором идет речь. Не говоря уже о Демьяне Бедном или Маяковском, чьи достижения в этом плане очевидны, мы замечаем, что даже Хлебников, сближаясь с агитстихом, становится прост и конкретен, и это продиктовано самим заданием, темой, «сюжетом», который им руководит и направляет к конкретному:
От зари и до ночи
Вяжет Врангель онучи,
Он готовится в поход
Защищать царев доход102.
Если в языке агитационной поэзии, непосредственно соотнесенной с явлениями современной политической жизни, предметные связи и конкретные обозначения выступали особенно явственно, то противоположные устремления в наиболее крайней степени выразились в поэтической речи, полностью потерявшей «назывательное» назначение и получившей формалистический признак «самоценного», «самовитого» слова. Хотя в литературной практике того времени заумь не имела широкого распространения, она была своего рода символом, девизом, «идеалом», к которому в той или иной мере склонялись многие представители антиреалистических школ, авторы, утратившие или еще не приобретшие чувство реального, чувство сродства с окружающей жизнью («За блаженное, бессмысленное слово я в ночи январской помолюсь»103). Поэтому и в теории формализма, разрабатываемой участниками Опояза, именно «заумное слово» очень часто служило отправной точкой в развертывании умозрительных спекуляций, ориентированных на полный отрыв поэтической речи от действительности, идеологии, общенародного языка. Заумь являла пример бессодержательного искусства и была первым звеном в той цепи доказательств, из которых следовало, что всякое искусство не зависит от смысла, от содержания и что любая поэзия (будь то поэзия Пушкина или Хлебникова) в принципе «заумна». Как писал тогда В. Шкловский, выводя специфику поэтического творчества из «заумного языка»: «В наслаждении ничего не значащим „заумным словом“, несомненно, важна произносительная сторона. Может быть, что даже вообще в произносительной стороне, в своеобразном танце органов речи и заключается большая часть наслаждения, приносимого поэзией»104.
Бессмысленное слово, приносящее наслаждение лишь «избранной» кучке любителей речевого «танца», и значащее «утилитарное» слово, поставленное на службу конкретным задачам всенародной борьбы и строительства, были полярны, исключали одно другое и выражали противоположные, несовместимые социально-эстетические платформы. Реальное многообразие в стихотворном языке того времени не сводилось к этим «полюсам». Здесь встречались часто самые разные «смешанные», «промежуточные» явления, -а также действовали такие интересы и устремления, которые были связаны по преимуществу с романтическим истолкованием революционной действительности. Последние тенденции, как мы видели, нередко приводили к воплощению жизненного материала в отвлеченно-иносказательной форме, в суммарно-обобщенных образах и т. д., что в известной мере имело в тот период историческое и художественное оправдание. Победа точного, предметного слова над поэтической абстракцией осуществилась несколько позже, в двадцатые годы. При этом ведущую роль в общелитературном процессе сыграла поэзия, уже в начальный период своего развития находившаяся в тесном контакте с практикой революционной борьбы и насыщавшая стихотворный язык содержанием современной эпохи.
4
Проблемы стихотворного языка, по которым в те годы существовали серьезные разногласия и шли ожесточенные споры, пересекались и тесно соприкасались с более общими вопросами поэтического новаторства, которые также решались тогда крайне остро, запальчиво, противоречиво, в напряженной идейной борьбе. центр внимания выдвигается и, можно сказать, кладет начало большой поэтической дискуссии проблема новаторства в его отношении к художественным традициям недавнего и далекого прошлого. Вступая в новую историческую и литературную эпоху, поэты стремились «определиться» и в плане того наследия, на которое они опирались или от которого они отказывались в своих поисках нового поэтического языка, созвучного современности.
В стихотворном «Предисловии к поэме А. С. Пушкина „Гаврилиада“» (1918) Демьян Бедный писал:
Друзья мои, открыто говорю,
Без хитростных раздумий и сомнении:
Да, Пушкин - наш! Наш добрый светлый гений!
И я ль его минувшим укорю?
Он не стоял еще... за «власть Советов»,
Но... к ней прошел он некую ступень.
В его лучах лучи других поэтов -
Случайная и трепетная тень.
Ему чужда минувшей жизни мерзость...106
Стихотворение это - характерный литературный документ эпохи. В нем отчетливо слышатся отзвуки горячих дебатов, кипевших вокруг вопроса: «принимать ли классиков», по пути ли с ними революционному искусству? Включаясь в этот спор, Демьян Бедный не без иронии воспроизводит ходячие аргументы тех, с кем он несогласен, чтобы с еще большей твердостью формулировать свой вывод: «великие» принадлежат не только прошлому, «Пушкин - наш!» Эта позиция была глубоко плодотворной. Но не многие разделяли ее так последовательно и убежденно как это делал Бедный.