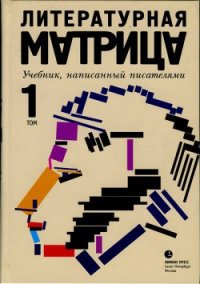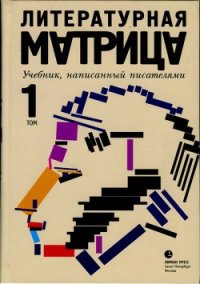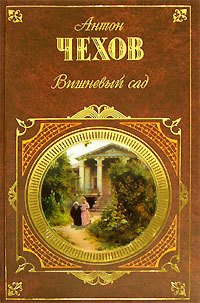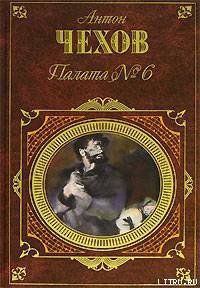Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Нетрудно заметить, что такое чудное совмещение любви к порядку и к независимости, сочетание страха перед стихией и безусловного приятия произвола властей — эту чудную смесь государственности и тяги к свободе Булгаков унаследовал от Пушкина. Пушкин, этот, по выражению философа Георгия Федотова, «певец империи и свободы», определил весьма существенный алгоритм сознания российского писателя — человека, сочувствующего народу, но и опасающегося народа, человека, оппозиционного власти, — но и надеющегося единственно на власть.
Представление Булгакова о верховной власти как о единственном препятствии на пути варварства достигло кульминации в главном романе писателя — там стихии чиновного своеволия и социалистической распутице противостоит Сатана. Надежды в этом мире нет, положиться не на кого — спасение приходит от Сатаны. Тут есть от чего растеряться. Сделать Сатану положительным героем книги о евангелисте (а Мастер, несомненно, евангелист) — дело, прямо скажем, кощунственное. Изобразить Сатану фактически единственным положительным героем всемирной мистерии — до этого не додумался ни один писатель, включая Мильтона и Гете. Мефистофель у Гете все же персонаж не особенно симпатичный. Он много знает о мире, он замечает подлости и не любит корыстолюбцев, но добра творить отнюдь не собирается. Не то Воланд — этот постоянно творит добро, он, можно сказать, вершитель справедливого суда, он — Хлудов последнего акта, только во вселенских масштабах. Не проклятый носитель зла (каким изображает его Данте), но деятельный, глубокий, внимательный к мелочам, заступник обиженных светской властью, ценитель и защитник прекрасного — вот каков булгаковский Сатана. Противопоставить стихии Советской власти писатель был готов что угодно, — так и Черчилль однажды сказал, что, если бы Люцифер пошел против Гитлера, то он заключил бы союз с адом. Сатана (то есть Воланд) исполняет в мире, созданном Булгаковым, строительную функцию, он деятелен и справедлив.
Насколько правомерно суждение, будто личные отношения Булгакова со Сталиным (последний, как известно, поучаствовал в судьбе писателя, устроив его работать во МХАТ), отражены в отношениях Мастера и Во-ланда, — сказать трудно. Скорее, в данном случае уместно вспомнить взаимоотношения Мольера и Людовика — в пьесе «Кабала святош» и в «Жизни господина де Мольера» Булгаков оставил нам точную хронику своих отношений с властью. Властитель призвал к себе, обласкал; мог погубить, но посадил за стол и накормил. Смотрите, завистники-критики, смотрите, сборщики податей: вот, сам король посадил меня рядом с собою! Власть пугает, но и надеяться более не на что; король — самодур, но он защитит. То, что отношение писателя к государственной власти вообще и отношение писателя конкретно к Советской власти не совпадали — в этом нет сомнения; и происходило так именно потому, что Советская власть в представлении Булгакова была не вполне властью. Для русской культуры, в которой стихия, будь то разлив Невы (см. «Медный всадник»), или разгул петлюровщины (см. «Белую гвардию»), или разбой чиновничества (см. любое произведение русской литературы), всегда выступает губительной силой, — для этой культуры существует одна надежда: на императора Петра, на Хлудова, на Пилата, на Сатану, на государственность. А Советская власть (по Булгакову) опиралась именно на стихию, в этом ее беда, в этом ее ошибка. Писатель даже предрекал такой форме управления гибель, говоря, что сегодня Швондер натравливает пса Шарикова на профессора Преображенского, не понимая того, что завтра Шариков погубит самого Швонде-ра. Распространено мнение, будто Булгаков был в оппозиции к Советской власти; к Советской — да, но не к власти вообще. Ничего подобного толстовскому отрицанию государственности он никогда не испытывал и не пропагандировал; напротив, если и изображал носителей власти отрицательными героями (гетмана Украины в «Белой гвардии»), то лишь таких, которые отказывались от бремени власти. Узнав, что гетман предал войска и бежал, оставив город Петлюре, полковник Турбин приказывает юнкерам срывать погоны и разбегаться — предано самое главное, предана государственность: умирать более не за что. Упрек Советской власти, разрушившей русскую государственность, Булгаков предельно ясно сформулировал в пьесе «Иван Васильевич», где изобразил управдома, захватившего царский трон. В данном случае Булгаков довел до реального воплощения известную фразу Ленина о том, что кухарка сможет управлять государством. Попутно следует отметить, что Ленин говорил иное: надо поднять образование общества до такого уровня, а власть сделать народной до такой степени, чтобы и кухарка могла управлять государством. Как бы то ни было, Булгаков описал то, что, по его мнению, сделали кухарки и безграмотные партийные активисты, дорвавшись до власти. Вот сели в царских палатах два мелких негодяя, карманник и управдом, и вершат государственные дела, разбазаривают страну, воруют драгоценности, набивают карманы. Совершенная правота Булгакова подтвердилась много позже — но эти эпизоды гиперболического воровства и расхищения государственной собственности уже относятся к истории сегодняшней.
Притягательность Сталина (а то, что Сталин завораживал воображение Булгакова, занимал его мысли — несомненно) состояла в том, что в России заново начала строиться государственность, рке не советская, не большевистская, но просто государственность как абсолютное воплощение власти. А загадка русской души состоит в том, что она, душа эта, и даже (и прежде всего) душа писателя-гуманиста, тянется к этому системообразующему началу, которое именуют то «петровскими реформами», то «демократическим централизмом», то «централизованной демократией». Какое место в данной картине мира, где в центре находится тиран, а по краям дикий народ, занимает художник — и вообще, оставлена ли «вакансия поэта», — на этот вопрос Булгаков старался ответить всю жизнь.
Булгаков оставил несколько автопортретов: молодого доктора в «Записках юного врача»; Николку Турбина в «Белой гвардии»; писателя Максудова в «Театральном романе»; разумеется, Мольера; и последний, щемящий автопортрет — Мастера в романе «Мастер и Маргарита». Раз от разу автопортреты становились все мрачнее: Ни-колка Турбин еще задорен и энергичен, писатель Максудов еще сохранил силы прельститься театром, Мольера еще воодушевляет признание короля — но лицо Мастера уже омрачено навсегда, мы не помним, чтобы этот герой улыбался. Так в холстах Рембрандта, от юности до старости писавшего автопортреты, постепенно сгущалась тьма вокруг лица, и в последних автопортретах из непроглядной черноты выглядывает уже измученный старик. То, что Булгакова «травили», общеизвестно; это слово слишком абстрактно, значение его стерто, но, вообще говоря, травля художника — это далеко не абстракция, это каждодневная пытка.
Булгаков слишком хорошо знал себе цену — совсем как его герой, Мастер. Он знал, чего стоит та или иная его строка; знал, что владеет русским языком как никто из современников. Он назвал себя Мастером — весьма просто обозначив свое место в русской литературе. Если они — писатели, то, значит, я никакой не писатель. Если вот это называется современным искусством — тогда я действительно и не современный, и не художник. А кто же тогда? Я — мастер.
Любопытно, что так же (то есть как к ремеслу, а не как к искусству) относился к своей работе и Маяковский — идейные противники, Булгаков с Маяковским были поразительно во многом схожи. Булгаков тщательно работал над речью: то, что мы называем особым, стилем Булгакова, есть просто в высшей степени осмысленная русская речь — писатель знает, что именно он хочет сказать, и слышит, как выговариваются его слова. Совпадение звука речи и смысла сказанного — наиважнейшая задача поэтического языка, но в русской литературе существует несколько мастеров, так относившихся и к прозаическому слову. Так писал Гоголь, так писал Толстой, так именно писал Платонов, и Булгаков тоже писал так. Язык (русский — не исключение) живет своей отдельной от замысла жизнью, он течет своим собственным течением, и надо обладать очень ясным умом и очень чутким ухом, чтобы войти в течение языка и сделать общеупотребительные слова своими собственными. Требуется не менее чуткое ухо, чтобы уловить разницу в звуках осмысленной речи — и речи, не обремененной заботой о смысле. Слова говорятся одинаковые, и даже содержание будто бы имеется — но речь не превращается в искусство. Мольеровский Журден однажды открыл, что говорит прозой; вообразите, что тысячи Журденов будут считать, что они прозой не только говорят, но еще и пишут. Вообразите, с какой ненавистью отнесутся они к тому неосторожному человеку, который укажет на ошибку в их самооценке. Булгаков и оказался таким неосторожным человеком — и нажил себе врагов, прежде всего среди коллег по ремеслу. Травит художника не власть — что за дело власти до художника? Травит художника не толпа — разве интересуется толпа его опусами? Травить, целенаправленно и со смаком, может только артистическая интеллигенция, люди со взглядами, с художественным образованием, с признаками таланта. Они ведь тоже литераторы — и они ведь разбираются в искусстве.