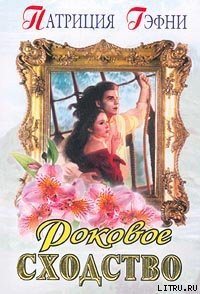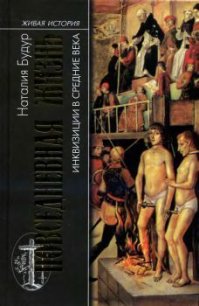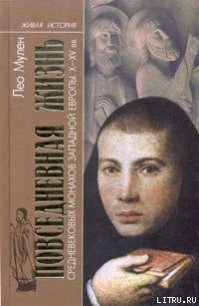Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена - Бобровникова Татьяна Андреевна (книги без сокращений txt) 📗
Сколько в этой речи ядовитого сарказма! С каким уничтожающим презрением говорит он о своих противниках! Как опасно было иметь дело с этим оратором, который умел так беспощадно высмеять своих оппонентов! Выступали ли они за закон, против или даже молчали — он умел представить их в глазах народа закоснелыми злодеями.
При этом сам голос у него был изумительный — красивый, мощный и звучный (Plut. Ti. Gr., 25), и Гай заранее обдумывал его переливы и тона. «Гракх… имел обыкновение, выступая перед народом, скрытно ставить за собой опытного музыканта с флейтой из слоновой кости, чтобы тот сейчас же подавал ему на ней нужный звук, указывая, когда нужно усилить, когда ослабить голос» (Cic. De or., Ill, 225). Так что речь Гая уже напоминала пение.
Судя по приведенным отрывкам, читатель мог бы вообразить, что Гракх говорил сдержанно, с горькой насмешкой. Но это жестокое заблуждение. «Гай говорил страстно, грозно и зажигательно» (Plut. Ti. Gr., 2). Тацит называет его неистовым оратором (Dial., 26). Плутарх рассказывает, что во время речи Гай в нервном возбуждении срывал с плеча тогу и метался по Рострам, что в ту эпоху в Риме было совершенно не принято. И лицо его при этом бывало страшно (Plut. Ti. Gr., 2).
Гай никогда не мог совладать со своим огненным темпераментом и бешеными страстями. Собой он владел не лучше брата. Только проявлялось это по-иному. У Тиберия, особенно в последние дни жизни, бывали настоящие истерики с неудержимыми рыданиями. Гай, в отличие от брата, не плакал. Плутарх передает, что один только раз, накануне своей смерти, когда участь его была уже решена, Гай, уходя с Форума, остановился перед статуей отца, долго молча смотрел на нее, а потом вдруг разразился бурными рыданиями (Plut. Ti. Gr., 35). Но вообще-то подобные взрывы были не в его характере. У него тоже бывали истерики, только другие — он разражался потоком площадной брани. Он был «колюч и вспыльчив настолько, что нередко во время речи терял над собой власть и, весь поддавшись гневу, начинал кричать, сыпать бранью, так что в конце концов сбивался и умолкал» (Plut. Ti. Gr., 2). Враги, разумеется, знали его слабость и подчас нарочно доводили бешеного трибуна, чтобы вызвать очередной припадок. Но иногда это происходило случайно. «Ведь надо думать, — пишет Геллий, — что при его природной вспыльчивости Гракх не нуждался во внешних причинах для гнева» (Gell., I, 11). Цицерон приводит любопытнейший случай.
Главным противником Гая был Кальпурний Пизон, великодушный защитник провинций, который за свою незапятнанную жизнь был прозван Честным (Frugi). Цицерон пишет: «Что это был за человек! Человек столь добродетельный, столь непорочный, что даже в те счастливые времена, когда вообще нельзя было найти окончательно дурного человека, его одного называли Честным». Гай собирался произнести речь против этого человека и велел служителю позвать его на Форум. Но служитель спросил, какого Пизона он имеет в виду, потому что в Риме их было несколько. Этот невинный вопрос вывел Гракха из равновесия.
— Ты заставляешь меня назвать моего врага Честным! — воскликнул он в ярости и, когда Пизон явился, произнес против него речь, «состоящую скорее из ругательств, чем из обвинений» (Cic. Fontei., 39; Schol. Bob. in Cic. Flacc. 96,26) [186]
В такие ужасные минуты Гая спасала та же флейта. Музыкант, замечая, что демон начинает овладевать господином, играл нежно и мягко. Гай был необыкновенно музыкален, и звуки действовали на его мятущуюся душу, как некогда арфа на безумного Саула. И, слыша нежную музыку, он «приходил в себя и успокаивался» (Plut. Ti. Gr., 2).
Существует странное, глубоко укоренившееся в сознании людей заблуждение. Думают, что Тиберий и Гай стремились к одному и тому же. Старший брат был мягче и нерешительнее, младший — жестче и энергичнее, но цель у них была одна — дать народу землю. Ничего не может быть дальше от истины. Тиберий действительно хотел одного — провести свой аграрный закон. Но планы Гая были величественнее и грознее. И весь свой гениальный ум, все свое упоительное красноречие, всю силу своей неукротимой души Гай отдал их осуществлению. Перед ним были две цели.
И первой из них была, конечно, месть. Месть его была действительно великой. То была могучая, всепожирающая страсть. Он посвятил ей всю жизнь, как лермонтовский Неизвестный, он пожертвовал ей всем своим счастьем. Этот необузданный, вспыльчивый человек мог затаиться и ждать годами, пока пробьет его час. Кошка, которая часами неподвижно лежит у мышиной норки, чтобы потом кинуться на свою добычу, могла бы позавидовать терпению Гая. Прошло 10 лет со дня смерти Тиберия Гракха, и только тогда, став трибуном, Гай приступил к своей мести. Подобно эсхиловским эриниям, он неотступно шел по кровавому следу убийц брата, и никто не избежал его тяжкой руки. Он непрерывно говорил о его убийстве, постоянно твердил о нем квиритам; о чем бы ни шла речь, он всегда возвращался к одному — к кровавой трагедии на Капитолии (Plut. Ti. Gr., 24). А так как Гай был гениальным оратором и актером, он заставлял своих слушателей вновь и вновь ее переживать. И всем начинало казаться, что Тиберий убит не много лет назад, а только что, что кровь его еще не высохла на каменных плитах. Он натравил народ на Назику, сделал его жизнь невыносимой, заставил покинуть Рим и умереть вдали от родины в тоске и печали [187]. Он обрушился на Попиллия, консула 132 года, который раздавал народу землю, но преследовал друзей Тиберия Гракха. Заслуги перед плебсом не спасли его. Гай послал его в изгнание, злорадно крикнув в вдогонку:
— О, пусть бы он истлел на виселице! [188] (ORF-2, C.Gracch.,fr. 32–38; Cic. Post red. in sen., 37; Ad quir., 60).
Теперь черед был за Октавием, бывшим коллегой его брата, который, по выражению Цицерона, «сломил Тиберия Гракха терпением» (Brut., 95). Это была нелегкая задача. Октавий казался неуязвим. Он славился своей честностью. На его репутации не было ни единого пятна. Но Гай нашел способ опозорить его, унизить, смешать с грязью. Он предложил закон, по которому магистрат, отрешенный народом от должности, не мог впредь занимать никакой магистратуры. Закон не имел и тени справедливости. Само такого рода отрешение было антиконституционно, а потому подобных прецедентов не было. Всем было ясно, что закон придуман специально затем, чтобы «покрыть позором Марка Октавия» (Plut. Ti. Gr., 25). Мало этого. Гай направил закон против Октавия, отрешенного от должности за девять лет до нового закона, то есть дал закону обратную силу, что было уже верхом несправедливости. Судьба Октавия, казалось, была решена. Его спасла неожиданность. Благородная Корнелия, мать Гракхов, не выдержала столь вопиющего беззакония. Она имела какую-то беседу с сыном. Наутро молодой реформатор явился на Форум и неожиданно объявил, что сам берет свой законопроект назад, потому что об этом его попросила мать (Plut. Ti. Gr., 25). Так неукротим был в своей мести Гай Гракх.
Вторая цель Гая была еще более грозной и страшной. Он задумал великую революцию. Он решил превратить римскую Республику в полную, абсолютную демократию, на манер афинской. Но если вдуматься, мы увидим, что это не две цели, а одна, во всяком случае, идти к ним надо было одним и тем же путем. В самом деле — кто мешал превращению Рима в демократию? Сенат — могучий оплот аристократии. А кто был главным убийцей Тиберия Гракха? Тот же сенат. И Гай объявил ему открытую войну. Он, который мог бы стать гордостью аристократии, блистающим алмазом в ее венце, с презрением отвернулся от нее и перешел к народу. Он отверг мир и покой и предпочел бунт и мятеж. «Гракх, обладавший сверкающим гением, — пишет Валерий Максим, — мог бы лучше всех защитить Республику, но он предпочел безбожно ее замутить» (Val. Max., VIII, 10,1). «О, если бы он захотел показать любовь не к брату, а к родине!» — грустно замечает Цицерон (Brut., 126). «О, как скорбели все честные люди, видя, что такие сокровища талантов не поставлены на службу более добрым мыслям и более благой воле», — говорит он в другом месте (Cic. Har. resp., 41).
186
Впоследствии речь была написана и издана, тон ее не изменился, но ругательства стали изящнее. Вот небольшой фрагмент из нее: «Твое детство — позор для твоей юности, юность — стыл для твоей старости, старость — бесчестье для Республики» (fr. 43).
187
Плутарх упоминает, что народ так преследовал Назику, что тот вынужден был покинуть Рим (Plut. Ti. Gr., 21). У Цицерона же Лелий говорит: «О том, что после Тиберия Гракха его друзья и близкие совершили по отношению к Публию Сципиону, я не в силах говорить без слез» (De amic., 41). О каком Сципионе здесь речь? На мой взгляд, не о нашем герое. Лелий решительно заявляет, что он не будет говорить о том, какой смертью погиб Сципион, и не произносит слова «убийство». Значит, он говорит о Сципионе Назике, о котором скорбит и в «Государстве». Если это предположение верно, то народ натравили на Назику «друзья и близкие» Тиберия. Далее Лелий упоминает Карбона и Гая. Видимо, их он и подразумевает под этим именем.
188
Став трибуном, он сразу же предложил закон, по которому вопрос о гражданских правах и изгнании римского гражданина мог решить только римский народ (Plut. Ti. Gr.,25) Он был направлен против Попиллия. Гай произнес против него две речи, и Попиллий, не дожидаясь приговора, покинул Италию. Вслед ему полетело решение, лишавшее его огня и воды в Италии. Многим это показалось жестокостью. Юные сыновья изгнанника и его родственницы вышли на Форум в трауре и умоляли квиритов о снисхождении. Тогда Гай примчался на площадь и произнес третью речь «Против Попиллия и матрон».