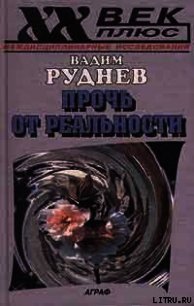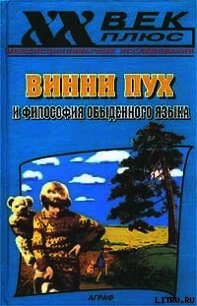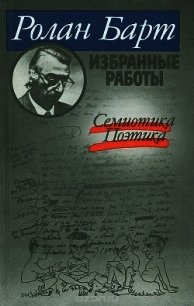Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
И второй характерный момент, заключающийся в том, что бредовые пространственные перемещения Шребера позволяют сказать, что его тело, как и тело стандартного мегаломана, становится равным вселенной. Это замечает Канетти, говоря о Шребере:
В космосе, как и в вечности, он чувствует себя, как дома. Некоторые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Плеяды – ему особенно по душе, он говорит о них так, как будто это автобусные остановки за углом. <…> Его зачаровывает величина пространства, он хочет быть таким же огромным, покрыть его целиком. <…> О своем теле Шребер пишет так, как будто это мировое тело (Курсив автора. – В. Р.) [Канетти, 1997: 465].
Почему же так важно, что при бреде величия тело больного воспринимается им как равное вселенной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо затронуть последнюю в нашем исследовании проблему: почему бред величия всегда предшествует слабоумию, почему он так тесно связан со слабоумием?
VII
Здесь надо вспомнить, что при продвижении по трем фазам шизофренического бреда – паранойяльно-проективной, параноидно-экстраективной и парафренно-экстраективно-идентификационной – Я шизофреника все в большей степени теряет свои позиции, подвергается, если воспользоваться экзистенциалистским термином, «омирению» [Verweltlichung], «проигрывает себя миру» [Бинсвангер, 1999]. Этот проигрыш, деградация Я, компенсируется внутренним раздуванием (инфляцией), венцом которого и является бред величия. Поскольку, так сказать, дальше раздуваться уже некуда, Я «лопается».
Мне кажется, трудно возразить против того, что движение от бреда отношения к бреду величия и последующему слабоумию можно рассматривать как инволюцию личности, поэтому выражение впасть в детство в качестве синонима слабоумия является неслучайным. Но если так, если шизофреник движется в своем «развитии» в обратную сторону, то аналог величия должен отыскаться в каких-то феноменах раннего детства. Это безусловно так и есть. Речь идет о феномене «всемогущества» младенца, о котором впервые ярко написал Ференци в связи с интерпретацией им феномена обсессивного «всемогущества мысли» (о связи обсессии и мегаломании см. выше) в статье «Ступени развития чувства реальности» (1913).
Но если уже в утробе матери человек живет и душевной жизнью, пусть бессознательной, <…> то он должен получить от такого своего существования впечатление, что он всемогущ. Ведь что такое “всемогущ”? Это ощущение, что имеешь все, что хочешь, и больше желать уже нечего. <…>
Следовательно, «детская иллюзия величия» насчет собственного всемогущества по меньшей мере не пустая иллюзия; ни ребенок, ни невротик с навязчивыми состояниями не требуют от действительности ничего невозможного, когда не могут отказаться от мысли, что их желания должны исполняться; они требуют лишь возвращения того состояния, которое уже было когда-то, того доброго старого времени, когда они были всесильны [Ференци, 2000: 51].
Далее Френци пишет, что период внутриутробного тотального всемогущества сменяется у ребенка после рождения «чувством обладания магической способностью реализовать фактически все желания, просто представив себе их удовлетворение, – период магически-галлюцинаторного всемогущества» [Там же: 53].
Переводя эти положения на более обыденный язык, можно вспомнить сопоставление, принадлежащее Блейлеру, который сравнивает мегаломана с ребенком, скачущим на деревянной лошадке и воображающим, что он генерал («мальчик изживает свое инстинктивное стремление к могуществу и борьбе, прыгая верхом на палочке с деревянной саблей в руках» [Блейлер, 2001: 180]).
Инфантильное всемогущество связанно с нарциссизмом, инфантильной эротической обращенностью на себя, формированием нарциссического грандиозного Я, для которого характерно чувство собственного величия и превосходства [Kohut, 1971]. Именно об этом писал Эрнст Джонс в книге «Комплекс Бога», где он первым из авторов психоаналитического толка изобразил тип человека, характеризующийся эксгибиционизмом, отчужденностью, эмоциональной недоступностью, фантазиями о всемогуществе, переоценкой своих творческих способностей и тенденцией осуждать других. Он описывал этих людей как личностей, находящихся в континууме душевного здоровья – от психотика до нормального, говоря, что «когда такой человек становится душевнобольным, он ясно и открыто демонстрирует бред, что действительно является Богом. Он служит примером того типа, который можно встретить в любой клинике» [МакВильямс, 1998: 222] (Курсив мой. – В. Р. ).
Ср. это с описанием мегаломанического нарциссизма Маяковского:
М. ставил свое Я в центре. Он как бы строил свой мир наподобие Птолемеевой системы со своим Я в центре его. Во всех своих проявлениях он всегда исходил из своих интересов, выпячивал себя свою личность на первый план, причем часто это носило совершенно непроизвольный и бессознательный характер, насколько это было ему присуще. Это сказывалось очень резко в его отношениях к людям, например, в том, что М. в своей личной жизни мало или почти не считался с окружающими, поскольку они не представляли для него какого-либо интереса.
Во времена Фрейда считалось, что нарциссические личности не способны к переносу и поэтому психоаналитическое лечение их в принципе невозможно (это соответствовало клиническому взгляду на психотиков как на «недоступных»). Считается, что революцию в этом вопросе совершил Хайнц Кохут, который проанализировал возможность специфического нарциссического переноса. Для нашего исследования важно, что в наиболее архаическом типе такого переноса, merger transference (перенос слияния), нарциссическая личность воспринимает себя и аналитика как одну симбиотическую личность [Kohut, 1971: 114], что становится возможным благодаря тому, что в нарциссическом переносе реактивируется то, что Кохут называет я-объектом – это объекты, которые «подпитывают наше чувство идентичности и самоуважения своим подтверждением, восхищением и одобрением» [МакВильямс, 1998: 228]. Такими я-объектами являются, в первую очередь, конечно, родители, братья и сестры.
В сущности, здесь мы приходим к психодинамическому объяснению механизма экстраективной идентификации, суть которого кроется в нарциссическом отождествлении с всемогущим я-объектом, которое в нашем случае, как пишет О. Кернберг, соответствует «патологической регрессии к бредовому восстановлению грандиозного Я в холодном параноидальном величии» [Кернберг, 2000: 233].
Еще раз: на нарциссической стадии развития Я ребенка становится грандиозным (мегаломаническим) благодаря архаическому отождествлению с фигурой всемогущего я-объекта. При нарциссической патологии или акцентуации, вторичном нарциссизме, который может перерождаться в «злокачественный нарциссизм» (термин О. Кернберга) пограничного или психотического уровня, это грандиозное Я, подпитанное идентификацией с всемогущим я-объектом, реактивируется и в нашем случае (в случае бреда величия) проявляется в виде экстраективной идентификации, которая, похоже, является не чем иным, как репродукцией этого самого первичного отождествления с всемогущим я-объектом.
Вот почему наиболее обычный преэдипальный вариант этого отождествления – сын отождествляет себя с всемогущественным отцом – проигрывается вновь в мегаломаническом сюжете как динамика отождествлений и взаимоотношений старших и младших богов, как мы это видели при рассмотрении случаев Йозефа Менделя и Даниеля Шребера.
Отсюда прозрачной становится соотнесенность мегаломанического сюжета с мифологическими первосюжетами (о чем писал уже О. Ранк, связавший исследованный им миф о чудесном рождении героя с мегаломаническим сюжетом знатного происхождения [Ранк, 1998: 202–203]).
Что же это за первосюжеты? Здесь вспомним характерное для рассмотренных случаев представление о теле мегаломана как о мировом теле, то есть репродукции мифологической идеи тождества микрокосма и макрокосма.