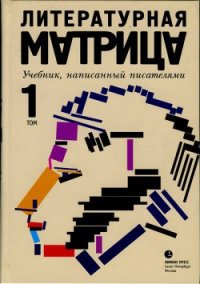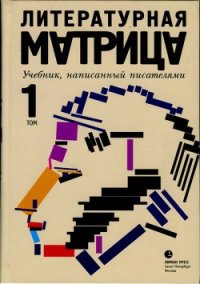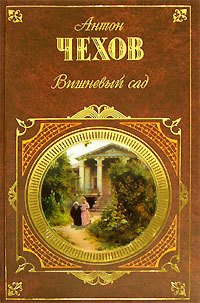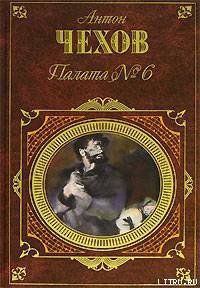Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Художественная работа судьбы, ее прихотливые узоры привлекают Набокова и его героя. В конце «Дара» Годунов-Чердынцев задумывает роман, который в реальности становится «Даром» Набокова. Таким образом, конец превращается в начало. «Продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка», — так, онегинской строфой, завершается роман.
Всякий роман есть сложное сплетение сюжетных и тематических линий. Автор плетет эту «косу», забирая самые разные «пряди», казалось бы, далекие одна от другой, — но в результате получается слитное целое, и задним числом умный читатель понимает, что финал обогащает начало. «Дар» Владимира Набокова, как и все другие его книги, надо не просто читать, но перечитывать. С каждым разом отдача от книги становится все больше. Не надо бояться длинных предложений, других стилистических сложностей: стоит адаптироваться, настроить слух и глаз, как все сложности растворяются, и остается чистое удовольствие от этой по-настоящему большой литературы.
«Раз художник использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в ход свое — так будет и правильно, и честно», — утверждал Набоков в своих лекциях, которые он читал американским студентам и которые были опубликованы уже после смерти писателя. Воспримем эти слова Набокова как руководство к действию, как «инструкцию по применению» его стиля и его книг.
Павел Крусанов
ШИНЕЛЬ ЗАМЯТИНА
Евгений Иванович Замятин (1884–1937)
Если задуматься, кого из русских литературных грандов можно было бы, не кривя душой, назвать бесспорным основоположником жанра, придется испытать определенное затруднение с ответом. Пушкин с романом в стихах? Гоголь с поэмой в прозе? Лесков с притчевым сказом? Достоевский с полифоническим романом? Козьма Прутков с блистательным черт знает чем? На поверку все перечисленное — лишь особенности авторской речи, а сами произведения, имея тот или иной градус уклона, формально лежат в лоне одного жанра, матерински их покрывающего. Перебрав таким образом всех, споткнуться, пожалуй, можно о Платонова, а зацепиться — только за Евгения Замятина с его романом «Мы». И тут не поспоришь: Замятин действительно твердой рукой прочертил универсальный контур вполне определенного жанра — антиутопии (хотя сам Евгений Иванович с несвойственным писателю его величины смирением считал себя всего лишь последователем Уэллса), — подхваченного мировой литературой, получившего развитие и по сию пору актуального. Более того, речь может идти не просто о жанре, но о своего рода традиции, преемственность которой подтвердили не самые последние на свете авторы: Олдос Хаксли («Прекрасный новый мир»), Владимир Набоков («Приглашение на казнь»), Джордж Оруэлл («1984»), Рэй Брэдбери («451° по Фаренгейту»)… Вплоть до нынешних Татьяны Толстой с романом «Кысь» и Владимира Сорокина с «Днем опричника». Факт достойный внимания? Пожалуй. Ведь еще Лев Толстой отмечал, что всё мало-мальски заметное в русской литературе являет собой пример отступления от жестких правил жанра — то есть представляет своего рода литературную ересь. Тем интереснее ситуация с Замятиным, который ниспровержением жанровых канонов не грешил, а напротив, с инженерным расчетом сам новые правила задал. При том что одним из любимых словечек Замятина было — «еретик». Таковым он считал и себя в своем личном литературном бытии.
Распространено мнение, что писатель — это его книги. Все остальное может прилагаться (или опускаться) по желанию. Так и есть, сотворенные книги — это первое и обязательное условие бытия автора как субъекта письма, или перед нами — не писатель. Биография в данном случае уходит на второй план. И это, пожалуй, хорошо, поскольку подчас, глядя на того или иного автора, думаешь, что у них биографии не было вовсе. По личному опыту свидетельствую, что большинство пишущей братии — люди скучные, увлеченные исключительно собой, своим тщеславием и ослепительным сиянием собственного дара, то есть в жизни совершенно неинтересные. Порой до полного уныния и безнадежного разочарования в творческой личности как таковой. Но бывает иначе. Можно вспомнить имена тех, кто прославил себя пером и при этом построил собственную судьбу таким образом, что после него осталась не биография, а мифология — то есть художников, от собственной судьбы неотделимых. Джонатан Свифт, лорд Байрон, Франсуа Вийон, Максим Горький, Николай Гумилев, Юкио Мисима… Ряд легко продолжить. Сегодня по этому пути идет Лимонов, строя свою личную историю так, как иные пишут авантюрный роман. Близко к этому ряду, хотя и на особый лад, стоит и Евгений Замятин, поэтому без личной истории тут — никак.
Евгений Замятин — плоть от плоти русской провинции с ее дремотной, подернутой ряской жизнью, то милой и душевной, то дикой и самодурствующей, — родился 1 февраля (20 января) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии. Отец, Иван Дмитриевич, — священник. Мать, Мария Александровна, — неплохой музыкант, капитан домашнего образования. О детстве Замятин писал: «Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой — или под роялью, а на рояле мать играет Шопена…» И в другом месте: «Рос под роялем: мать — хорошая музыкантша. Гоголя в четыре — уже читал». Дальше с особым чувством опять о Гоголе (Гоголь будет для нас важен как источник заклятия, подчинившего себе судьбу Замятина): «До сих пор помню дрожь от Неточки Незвановой Достоевского, от тургеневской „Первой любви“. Это были — старшие и, пожалуй, страшные; Гоголь был другом». А фоном: «Все это — среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев».
С 1893-го по 1896-й Замятин учился в Лебедянской прогимназии, где его отец преподавал Закон Божий. Потом — в Воронежской гимназии, окончив ее в 1902-м с золотой медалью («Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась», — напишет Замятин впоследствии в «Автобиографии»). В том же 1902 году он поступил на кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института. Стоит заметить, что во многих воспоминаниях, столь щедро оставленных потомкам Евгением Замятиным, прослеживается гордое любование автором одной из черт своего характера — упрямством, ребяческое упоение собственной «железной волей» (как не вспомнить тут лесковского Гуго Пекторалиса [343]). Ну вот, например, из гимназической поры:
«Специальность моя, о которой все знали: „сочинения“ по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы „закалить“ себя.
Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства, — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки».
Или взять мотив выбора института: «В гимназии я получал пятерки с плюсами за сочинения, и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно поэтому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет петербургского Политехникума».
Бурление столичной жизни захватило студента Замятина — наравне с учебой, он окунулся в лихорадку политической смуты. Митинги, революционные барышни, красные знамена, казаки: в 1903-м он участвовал в своей первой демонстрации. Потом — летняя практика на заводах и в портах: Севастополь, Нижний Новгород, Камские заводы, Одесса.
Летом 1905 года Евгений Замятин практикантом отправился на пароходе «Россия» из Одессы в Александрию («Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумной Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба», — из той же «Автобиографии»). А вернувшись с яркими и звонкими впечатлениями, тут же был накрыт новыми — пылающими и грохочущими: в Одессе бунтовал «Князь Потемкин-Таврический». Из свойства характера, требующего от него избегать легких путей и всегда поступать вопреки (впоследствии это правило было перенесено и в литературу), Замятин сошелся с большевиками. «С машинистом „России“ — смытый, затопленный, опьяненный толпой — бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов, — писал он. — В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком». В декабре того же года в забастовочном «штабе» на Выборгской стороне Евгения Замятина арестовала полиция за революционную агитацию среди заводских и фабричных рабочих. В итоге — несколько месяцев, проведенных в одиночной камере, где Замятин, закаляя свою «железную волю» (да простит мне Лесков повторную аллюзию), изучал стенографию и английский язык. Однако весной 1906-го, благодаря хлопотам матери, его освободили и выслали из Петербурга в родную Лебедянь.
343
Гуго Пекторалис — главный герой повести Н. С. Лескова «Железная воля» (1876). — Прим. ред.