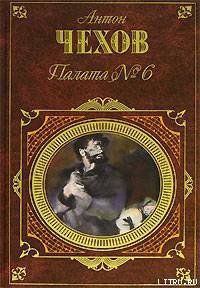А.П.Чехов в воспоминаниях современников - Сборник Сборник (прочитать книгу .txt) 📗
Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? - в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в "Эрмитаже", в "Метрополе", в "Праге" или у "Яра"?
И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.
И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры - все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.
Среди петербургских литераторов особенно близких приятелей у А.П. не было, но добрые, товарищеские отношения были со многими.
С большим вниманием и, я даже скажу, с товарищеским состраданием относился он к странной литературной судьбе недавно умершего И.Л.Щеглова. Их отношения были давние, завязавшиеся еще в те времена, когда у А.П. не было известности.
Чехов искренне жалел Щеглова и говорил, что его здоровый некогда талант "заболел неизлечимой болезнью". /344/
В самом деле, странна была судьба этого писателя, который начал такими свежими, здоровыми очерками военной жизни, помещавшимися в "Деле", а затем точно вдруг попал в какой-то тупик, из которого никак не мог выбраться.
Соблазнил его театр, и написал он для театра что-то имевшее успех. И этот успех как будто отравил его. В дальнейшем на всей его работе лежал налет театра и кулис. И при этом странно то, что сам он не был театральным человеком. Никто не вспомнит, чтобы часто его видели в театре, а тем больше - встречали за кулисами. Последние годы своей жизни он посвятил народному театру, много писал о нем{344}, составил книгу, которая, впрочем, никакого движения в деле народного театра не произвела.
И вот когда о нем заходила речь, лицо Чехова всегда становилось печальным. Он часто говорил об особом авторском психозе, которым заболевает человек, ставящий пьесу.
- Я сам испытал это, когда ставил "Иванова", - говорил он и описывал болезнь: "Человек теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера...
Актер, исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук, и что это ужасно, и что галстук этот погубит пьесу.
Бывает и хуже: актриса - ломака, вульгарнейшая из женщин, раньше он не мог выносить ее голоса, у него делались спазмы в горле, когда она с ним кокетничала. Но вот ей аплодируют, она тянет пьесу к успеху, и он, автор, начинает чувствовать к ней нежность, а в антракте подбегает к ней и целует ей ручки...
А вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка... Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощупывает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится. /345/
И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы "утешать" автора, и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их.
Человек с более или менее здоровой нервной организацией выдерживает это потрясение, понемногу отходит, и дня через три его можно перевести в разряд "выздоравливающих", но иных это потрясает на всю жизнь. Вот это и случилось с Иваном Леонтьевичем.
Нет, вы посмотрите, что ему театр? Да он его даже, в сущности, не любит, почти не бывает в нем и не знает ни актеров, ни актрис, а пишет об актерах и актрисах".
И он постоянно убеждал Щеглова: "Бросьте вы театр и кулисы. Ведь это же, в сущности, лазарет самолюбий. За исключением, может быть, дюжины настоящих талантов, все - страдающие mania grandiosa*. A вы обратили бы ваше благосклонное око на простую, здоровую жизнь, которой вокруг вас хоть отбавляй. Вот отворите окно - и она на вас так и пахнёт".
______________
* манией величия (лат.).
Но это не помогло. Щеглов пережил Чехова, но от театральной отравы не вылечился. Кажется, он даже сомневался, в полной искренности чеховских советов; ведь сам-то Антон Павлович театром занимается, для театра пишет, и театр в последние годы завершил его славу.
Но тут уже было роковое непонимание, с которым ничего нельзя было поделать.
В Петербурге у А.П. было много литературных приятелей, и каждый хотел повидаться с ним. Он был для петербуржцев человеком свежим, от него живой Русью веяло. Все тут, встречаясь постоянно в одних и тех же комбинациях, изрядно надоели друг другу, и появление его - такого своеобразного и так непохожего на всех - как бы озонировало атмосферу...
В воспоминаниях одного писателя{345}, достоверность которых выше всяких сомнений, я нашел описание странной сцены: как в квартире одного известнейшего писателя почтенная дама, впоследствии занимавшая видное положение в журнально-издательском деле, задела Чехова резким замечанием относительно одного из его /346/ литературных друзей. И это была его первая встреча и с писателем и с дамой.
В воспоминаниях об этом говорится вскользь, но я знаю, что эпизод этот в действительности не скользнул по душе Антона Павловича. Он не задел и не оскорбил его лично, хотя не было бы ничего удивительного, если б так случилось.
Каждый имеет право считать своими друзьями тех, кто ему нравится. Определяя направление писателя, казалось бы, достаточно иметь в виду его произведения и оставить в стороне его друзей.
Но упрек этот подействовал на него в другом направлении. Он всю жизнь потом страшился тех исключительности и нетерпимости, какими повеяло на него в том эпизоде.
Я встретился с ним гораздо позже, и все же об эпизоде этом он мне рассказал и не раз возвращался к нему. И потом, сколько мне известно, он, по своим общественно-политическим симпатиям близкий к взглядам того кружка, до конца жизни никогда с ним не сблизился.
- Хорошие люди, - говорил он, - все превосходные люди, но требуют, чтобы и ты был таким же превосходным, как они.
Но это было, может быть, единственное огорчение, доставленное ему петербургскими литературными кругами. Сколько я помню, всегда все были ему рады и его появление всюду приветствовалось. И не подлежит никакому сомнению, что он не только производил освежающее впечатление, но как-то без всяких стараний со своей стороны объединял довольно-таки разбросанные и разрозненные элементы.
Он, например, в один из своих приездов в Петербург подвигнул здешних беллетристов хоть раз в месяц собираться на общие обеды. Приезд его совпал с Татьяниным днем{346}. В Москве он привык этот день проводить в шумном обществе товарищей по Московскому университету, и привычка эта была так сильна в нем, что он, несмотря на то, что дела этого не позволяли, чуть было не укатил на один вечер в Москву.
Он отказался от этой мысли только тогда, когда ему удалось уговорить группу петербургских беллетристов /347/ собраться в этот день где-нибудь в ресторане для общего обеда, что и было исполнено.
И этому обеду суждено было сделаться "учредительным", так как от него пошел целый ряд регулярно повторявшихся обедов. Они назывались "беллетристическими"{347}. Но потом почему-то пришпилили к ним ничем не оправдываемое название "Арзамас". Кличка, как нимало не подходящая и взятая напрокат, скоро сама собою отклеилась, да и обеды погибли от взаимного равнодушия участников и - как это ни странно - отсутствия общих интересов.