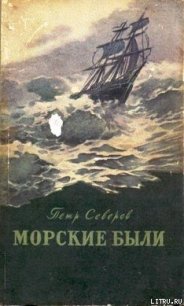Карта родины - Вайль Петр (онлайн книги бесплатно полные .TXT) 📗
Ходим среди золотистых гор навата — вареного кристаллического сахара, парварды — белых приторных конфет, халвы всех цветов и очертаний — круглой и плоской, цилиндрической, коричневой, желтой, красно-белой. В том же ряду сластей лежит книжка о Тимуре, Надя горячо рекомендует. Купил, но дальше предисловия пойти не удалось: сообщается, что автор, Евгений Березиков, писал, «не полагаясь на исторические источники, а путем перевоплощения». Знакомо-знакомо — опять-таки свой путь. Над рынком нависает громада соборной мечети Биби-Ханым, которую сравнивали по величию и блеску с Млечным Путем. Тимур умел строить не хуже, чем воевать. Суверенный Узбекистан взял подходящий исторический ориентир, даже с невольным политическим реверансом северному соседу. Тимур, чья империя простиралась от Сыр-Дарьи до Инда и Ганга, от Тянь-Шаня до Босфора, победил всех, кто ему попадался, в том числе Тохтамыша, который незадолго до того сжег Москву. Разгром Сарая-Берке, столицы Золотой Орды, оказал серьезную услугу Руси — настоящий тимуровский поступок.
Культ Тимура в Узбекистане повсюду. Раньше непонятно было, как к нему относиться: вроде великий воин и строитель, но и злодей, соперничающий в мировой истории с Чингисханом и Гитлером, предвосхитивший будущие масштабы зверств (только при подавлении восстания в Багдаде отрубил девяносто тысяч голов). Но дали отмашку — и Тимур стал безусловным героем, окруженным мистическими легендами. Главная — достоверная — про то, что, приняв решение о научной эксгумации тела Тимура, его прах в самаркандской усыпальнице Гур-Эмир пришли тревожить 22 июня 1941 года.
В центре Ташкента выстроили мавзолей Тимура — круглый, приземистый, с бирюзовым куполом над рядом зубцов. Экспонатов внутри немного, зато полно охраны: курсантов-милиционеров примерно вчетверо больше, чем посетителей, — может, в воспитательных целях? Посреди средоточия ташкентской общественной жизни — сквера тоже имени эмира Тимура (поместному Амира Темура) — конный памятник ему же. Здешние летописцы подсчитали, что на этом месте уже стояли одиннадцать памятников разным персонажам, меньше всех продержался Сталин, запоздало воздвигнутый лишь в 52-м.
В монументальной чехарде местной специфики нет — обычная советская история любых широт. В нынешнем Ташкенте примечательно разве что анекдотическое сооружение в районе правительственных зданий — глобус «Узбекистан»: на высоком гранитном постаменте — бронзовый земной шар с барельефной нашлепкой одной-единственной страны.
После провозглашения независимости неоригинально снесли все памятники русским классикам, кроме Пушкина. Главный режиссер ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль, мой приятель и отдаленный родственник, предполагает, что Пушкина простили за «Подражания Корану». «Он милосерд: Он Магомету / Открыл сияющий Коран, / Да притечем и мы ко свету, / И да падет с очей туман» — нечестивец, а вроде понимает. Пушкин, чья «муза, легкий друг мечты, к пределам Азии летала», в своем интересе к Востоку дальше Кавказа, по сути, не шел — впрочем, как и другие наши великие художники, определившие географию культуры. Русским Востоком был Кавказ; холодная лесная Сибирь не считалась Азией, скорее естественным продолжением России; Мавераннахр вовсе не вошел в русскую художественную традицию. Не успел: слишком поздно началось завоевание Туркестана. В России это происходило в связке — наша словесность была вооружена буквально: сочинители приходили на окраины империи в офицерской форме. Так впечатался Кавказ усилиями Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Толстого; даже штатский Пушкин попал туда с действующей армией. Туркестанская эпопея пришлась на те времена, когда в литературе офицеров-дворян сменили шпаки-разночинцы, сосредоточенные не на больших просторах, а на маленьком человеке.
Марк Вайль поставил в своем «Ильхоме» пушкинские «Подражания Корану», как до того ставил «Счастливых нищих» Гоцци, где действие происходит в пусть фантастическом, но Самарканде при некоем хане Узбеке. В таком сопряжении России и Востока, Европы и Востока — не попытка пошатнуть киплинговскую формулу, а лишь осмысление повседневного окружающего. Созданный Марком в 76-м году «Ильхом» стал предметом гордости (участие и победы в международных фестивалях, всеевропейская известность) и ядром конденсации русского Ташкента, потому что — не просто театр. Речь даже не о том, что здесь, помимо спектаклей, в маленьком зале на сто семьдесят зрителей устраиваются концерты современной музыки и художественные выставки в фойе. Марк определяет «Ильхом» как театр стиля и образа жизни. Того стиля и образа, который выбивался из по-восточному неторопливого течения окружающей жизни, в годы после распада империи — особенно показательно. Русский Ташкент динамичнее Ташкента — именно это обстоятельство, а не конкретные социально-политические неудобства, обусловило русский исход из независимого Узбекистана. Пафос стилистической несовместимости звучит, хоть и не проговаривается, в документальном фильме «Ташкент. Конец века», который Марк Вайль снял в 97-м. Несовпадение общественных темпераментов. Мудрость Корана, даже в пушкинском упругом переложении, — восточная, не европейская мудрость: «Почто ж кичится человек? / За то ль, что наг на свет родился, / Что дышит он недолгий век, / Что слаб умрет, как слаб родился?» Никакой слабости, как кичились, так кичиться и будем, есть чем или нету — на том стоим.
Стоим с сестрой Леной у памятника Тимуру, она показывает: «Там мы жили до землетрясения, на углу Дзержинского и Опанасенко». Опанасенко прошел сквозь все испытания невредимым, Дзержинский исчез — самой улицы не стало. Нет улицы, нет дома, где тетя Надя паковала нам в Ригу посылки с полотняными мешочками изюма, урюка, кураги небывалых размеров и вкуса. С тех детских пор компот из сухофруктов для меня остался настоящим лакомством, а не общепитовской повинностью. Еще мать раза два в год готовила незабываемый сладкий плов из ташкентских гостинцев. «А какой моя мама делала плов! — говорит сестра. — Но все-таки мужчины лучше готовят». Я приосаниваюсь: «Это да. Дивные манты у твоего Толи». Трудно представить, сколько мы накануне съели под домашнее вино, которое Толя привозит со своего виноградника. Обстоятельства новой постимперской жизни: участок недалеко, но это уже Казахстан, так что каждый раз приходится нарушать государственную границу.
Разговоры о еде естественно ведут дальше по скверу Амира Темура, в аллею открытых кафе и закусочных. По-исламски без алкоголя, по-современному водка и пиво все же есть, но только в резной белой беседке, упрятанной среди зелени в глубине парка. На виду и в ходу кока-кола, чай, конфеты, халва, пироги, пирожные, торты, в редких просветах меж сластями — бараньи ребра и куриные ноги.
Один за другим — телевизоры на маленьких столиках. Караоке. Узбек говорит узбеку: «Вам начать?» — и заводит тенором «С чего начинается родина…». Рядом маленький толстяк с глазами-ниточками истово голосит: «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». На экране колышется рожь, выделяя шрифт черным по желтому. Набор телепесен стандартный: «Москва — звенят колокола! Москва — златые купола!» — звучит с резким восточным акцентом. Уходишь из сквера, и, ударяя в спину, несется гортанный голос по аллее в знойном мареве, вдоль румяной сдобы, вдоль конфет и баранины: «От мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка…».