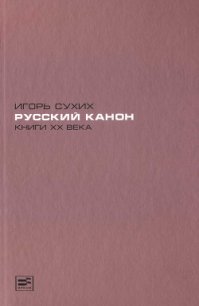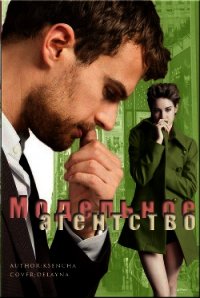Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
Трагедия Зощенко была не оптимистической, но исторически закономерной.
«Есть такая версия, – записывает А. Платонов для себя в начале 1930-х годов. – Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренно думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного “плаката”… Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет, и быть им не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть и надо работать среди них и для них».
Зощенко (как и Платонов) поставил эксперимент на себе. Вслед за поэтом он мог бы повторить: «Всем лозунгам я верил до конца». Он стал настоящим «социалистическим реалистом» – не по социальному заказу, а по собственному выбору, – изображающим прекрасный новый мир в его послереволюционном развитии (только не мифологизированном, а подлинном).
Тем нагляднее оказался результат. На месте «оживленного плаката» все время возникал «советский Кафка». Это приводило в ужас самого автора, заставляя его искать причины в хандре, меланхолии, дефектах своего художественного зрения.
«Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях, – точно формулировала проблему Н. Я. Мандельштам. – Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову набок, и жестоко за это расплатился.
Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия».
Место Зощенко в литературном пейзаже выявляется при сопоставлении с современниками, тоже работавшими в области «смеховой культуры».
Сатира Булгакова, его яростный пафос отрицания порождены внешней точкой зрения на мир, в котором он оказался. Булгаков судит эпоху оттуда, из XIX века, с точки зрения старой истории и культуры, которую сломала революция. Отсюда – образ Дома в «Белой гвардии», конфликт Преображенского и Шарикова в «Собачьем сердце», «слоистая» структура «Мастера и Маргариты».
Веселый смех, скажем, Ильфа и Петрова в их знаменитых романах – тоже внешний, но их точка зрения, эстетическая позиция располагалась в будущем, в том «новом мире оживленного плаката», о котором размышлял Платонов. «Молодые дикари» – определяла их с «булгаковской» позиции Н. Мандельштам. Отсюда – Воронья слободка и случайно залетевший в нее гость из будущего Севрюгов, «Антилопа-Гну» и проносящийся мимо нее караван новых автомобилей. «Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями».
Зощенко-автор существует внутри изображаемого мира, на одном уровне с персонажами. Его коммунальная квартира никогда не видела ни лампы под зеленым абажуром, ни великих строек или полярных экспедиций. Потому смех Зощенко (особенно в «Сентиментальных повестях») так похож на сдержанное рыдание.
Этой особой, уникальной позицией – уникальной именно искренностью, талантливостью растворения в «лозунге», вплоть до отказа от собственного языка и перехода на язык массы – и объясняется поведение Зощенко.
Когда его упрекали за участие в книге о Беломорканале, он «пытался объяснить, какое доверие было ко всякой энергичной идее сверху, ко всякому стремлению перековать старую жизнь, какой сладкой была та вера…». «И писал я рассказ искренно, честно. А вы полагаете, что “История одной перековки” не вышла?»
Когда Ахматова, зная, как и Булгаков, истинную цену и Жданову, и этой власти вообще, немногословно соглашалась с партийными оценками (согласна, что она «то ли монахиня, то ли блудница»), Зощенко бросался объяснять, что он не может быть «пошляком» и «подонком литературы», потому что воевал за эту власть, верит в нее, считает ее своей.
Из записей Зощенко 1956 года: «При Сталине. Основные доказательства сводились к утверждению, что социалистический строй неизмеримо выше капиталистического. К этому приводились все доказательства технической и научной мысли.
Авторитет страны возрос неимоверно. Ясно, что литература нужна была такого рода, чтобы доказывала то, что доказала наука и техника. Нужны были: “Широка страна моя родная” (история В. Лебедева-Кумача), Бабаевский.
Сейчас примерно необходима такая же литература для тех же доказательств.
Видимо, в холодной войне – это необходимо государству».
Дело здесь даже не в пафосе оправдания государства, а в том, что Зощенко в своих последних дневниковых заметках вообще про это думает, что его взгляд прикован к государственной колеснице.
Между тем советской власти давно уже (или с самого начала?) были нужны не искренность, а лицемерие и притворство, не правда, а послушание, не слуги народа, а «автоматчики партии».
«Мне некого винить. Я попал под неумолимое колесо истории», – объяснял Зощенко жене бывшего собрата-серапиона.
«Вероятно, я оторвался от жизни и людей и замкнулся в себе. Если все так дружно кричат на меня – стало быть, я не прав… Как до удивления странно и нелепо складывается моя жизнь». Слова из письма 1955 года поразительно напоминают реплику какого-то неприкаянного героя «Сентиментальных повестей».
Преодолевая эту книгу, уходя от нее, Зощенко всю жизнь неизбежно к ней возвращался. «Сентиментальные повести» тоже остались памятником не склонного к сантиментам века.
«Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало… Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы непереводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения» (В. Шаламов).
Шаги командора. (1928, «Двенадцать стульев». 1931, «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова)
Литература – дело одинокое. Одинок не только монах, склонившийся в келье над рукописью, или писатель, задумчиво грызущий в кабинете гусиное перо, но и современный сочинитель, барабанящий по клавишам, даже если он сидит в шумной редакции.
Творчество «больше, чем единица», вызывает дополнительный интерес.
«Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: “Как это вы пишете вдвоем?” Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали… <…> Потом мы стали отвечать менее подробно. <…> Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:
– Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры! Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтоб не украли знакомые» («Золотой теленок». Предисловие).
С братьями Гонкурами пусть разбираются французы. Но в русской словесности было, пожалуй, лишь три больших коллективных удачи: Козьма Прутков, братья Стругацкие и – как раз посередине – писатель Ильфпетров (недаром придумавший себе и псевдоним Ф. Толстоевский, в котором химически слились фамилии двух крупнейших русских авторов-антиподов).
Мемуаристы дружно утверждают: в быту они были едва ли не противоположностями: загадочная еврейская и загадочная русская душа.
Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзильберг, 1897—1937) был болезнен и близорук, молчалив и начитан, любил гулять по улицам и фотографировать, в конце жизни мечтал написать что-то похожее на чеховские «Душечку» или «Крыжовник». Он – созерцатель, наблюдатель. «Видя Ильфа, я думал, что гораздо важнее того, о чем человек может говорить, – это то, о чем человек молчит. В нем (в молчании) он очень широко обнимал мир…» (Ю. Олеша. «Памяти Ильфа»).