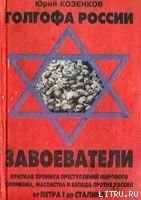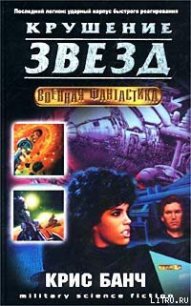«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (е книги TXT) 📗
Разумеется, можно отнести к радикальной интеллигенции и кадетов, которые были в числе лидирующих революционных партий. Не случайно Ленин употреблял по отношению к ним весьма жестокие инвективы — очевидно, что боялся соперников. В сегодняшних интерпретациях сборника, как ни странно, кадетская точка зрения, и в частности признанного кадетского лидера П. Н. Милюкова, практически не учитывается. Между тем его оценка сборника была из самых трезвых и разумных. Пожалуй, единственный из критиков он пытался не негодовать, не плакать, не смеяться, а понимать.
Конечно, многое в этой книге было угадано и предсказано, с чем Россия столкнулась на своем дальнейшем пути. Пафос «Вех» был в критике российского неумения работать, критике праздности, желания потреблять не давая, уравниловки вместо творчества. Это было выступление против обожествления «общественного духа», против «отсутствия идеала личности» (причем под общественным понималось преобладание стихии коллективизма в менталитете русской культуры), утверждение пути религиозного самосотворения личности, создание — на основе православия — этики, наподобие протестантской, — короче, были поставлены проблемы нового выбора исторического пути, подобного тому, который когда‑то был совершен Петром Первым. Но путь этот авторами «Вех» строго детерминировался религиозной, точнее сказать, православной парадигмой. Несмотря на постоянные апелляции к народу, вся религиозная мысль после Достоевского видела активное начало послепетровской русской истории прежде всего в интеллигенции. Именно этот момент и артикулировал сборник: не к народу идти, а себя создать должно русское образованное общество, тогда и народу будет хорошо.
Поэтому и причину всех духовных неурядиц России, ее неустройства, революционного брожения и разлада авторы сборника увидели в русской интеллигенции. Суть такого угла зрения пояснил С. Н. Булгаков: «Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции, как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась в данный момент слаба и даже бессильна наша интеллигенция. Она есть то прорубленное окно Петром в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа, и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь огромна и устрашающа ее историческая ответственность перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным!» [455]
В советские годы «Вехи» ходили в «самиздате» и способствовали созданию у возродившейся российской интеллигенции очередного комплекса вины. Все постсоветское интеллигентское самобичевание — результат чтения «Вех» и «веховских» авторов. Почти не было советского интеллигента, который не соглашался бы признать тесную взаимосвязь революции и интеллигентского миропонимания. В своей блестящей статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» (1969), перебрав все грехи прошлого, Владимир Кормер пророчил новые соблазны, которые войдут в Россию через интеллигенцию: «Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить Дьявола?» [456] Собственно говоря, шла переоценка позиции интеллигента в России, о которой сразу после Октября один из авторов «Вех» Николай Бердяев писал: «Русскому интеллигентному обществу, выброшенному за борт жизни в дни торжества его заветных идей и упований, предстоит многое переоценить после пережитых за последнее время катастроф» [457]. В этом самобичевании было много надлома, да и не сложившегося еще, так сказать, результирующего взгляда на процессы русской истории последнего столетия.
В чем же виделась интеллигентская вина? Можно сказать, что в развернутом виде веховские авторы повторили опасение Жозефа де Местра, говорившего, что победоносную революцию в России возглавит Пугачев «из университета» [458]. Предводителем грядущего и, возможно, победоносного разгула русской стихии была объявлена русская интеллигенция, якобы превратившаяся в своего рода боевой монашеский орден. Вот как оценивал ситуацию С. Н. Булгаков: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества — если не от греха, то от страданий — составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. <…> В этом стремлении к Грядущему Граду, перед которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности» [459]. Булгаков, однако, резко разделял интеллигентскую псевдоцерковность и подлинное христианское начало, говоря о коренной «противоположности христианского и интеллигентского душевного уклада» [460]. Но вот способен ли этот орден повлиять как‑то на народ — отрицательно или тем более положительно? Да и что такое народ? Каково его отношение к интеллигенции? Это была проблема, на которую «Вехи» не имели ответа. Более того, она и не была сборником поставлена. Хотя когда‑то тема «народного бунта», не щадящего никого, а особенно тех, «что в очках», очень занимала умы русских поэтов и мыслителей — и тех, кого «Вехи» отнесли к «интеллигенции», и тех, кого в качестве «свободных умов», вынесли за ее пределы. Любопытно, кстати, что одни и те же персонажи разными авторами «Вех» трактовались по — разному. Так, для Бердяева Радищев — отец русской интеллигенции, а Струве относил Радищева к «Богом упоенным людям» [461], но ни в коем случае не к интеллигентам.
И с удивлением в 1918 г. С. Н. Булгаков замечал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов»: «Как ни мало было оснований верить грезам о народе — богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. <…> Русский народ вдруг оказался нехристианским» [462]. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей» [463]. Достоевский задавался вопросом, сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия. О чем говорили «Вехи»? Да о том, что русская интеллигенция не выполняет завещанную ей Петром миссию — воспитания народа. Интеллигенция — единственная активная сила в России, а она отказывается сама от себя в своем народолюбии. Постоянно клянясь именем Достоевского, по сути дела авторы сборника противостояли его позиции преклонения перед народом, поставив во главу угла идею личности. Правда, как и Достоевский, они требовали от этой личности вполне определенного поведения. Но как воспитывать стихию?
Освобождение от внешнего гнета мыслилось авторами «Вех» как результат освобождения от внутреннего рабства. Об этом написал в предисловии М. О. Гершензон: «Внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и <…> она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства» [464]. А русская интеллигенция лишена‑де этого личностного пафоса, занята общественной борьбой, политикой: этому необходимо противостоять. И в сборнике были сформулированы обвинения против интеллигенции, отчасти известные из консервативно — реакционной печати прошлого века, отчасти предсказавшие антиинтеллигентские инвективы сталинской эпохи; там также можно услышать и тональность диссидентских упреков интеллигенции, хотя уже совсем за другое — за ее нежелание принимать участие в политической борьбе. Моральной поддержки демократического движения казалось уже недостаточно активным борцам с режимом. Начиная от ненависти к образованным слоям Бакунина и Нечаева, презрительного веховского термина «интеллигентщина» и кончая всем известной солженицынской «образованщиной», мы видим претензии самых разных партий и группировок (как левых, так и правых) к интеллигенции. Не забудем и определение В. И. Ленина, назвавшего интеллигенцию «говном». Если Бакунин и Нечаев увидели грех интеллигенции в ее излишней образованности, то уже «веховцы» Франк и Булгаков — во вражде русской интеллигенции к культуре (хотя куда отнести врачей, инженеров, земских работников и прочих героев Чехова?! — Очевидно, что к интеллигенции). А к этому «Вехи» добавили еще критику (следом за Достоевским) за ее как безрелигиозность, так и специфическую религиозность, беспочвенность, но и нравственный ригоризм, антигосударственность, но и охранительство, политизированность, наконец, за ее космополитизм.