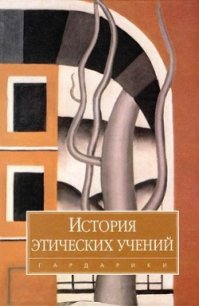Зарубежная литература XX века: практические занятия - Коллектив авторов (мир бесплатных книг .TXT) 📗
О том же говорит Бернард, ожидая в ресторане Персивала: «Чтобы стать собой (я заметил), я должен отразиться. Прогреться в свете чужих глаз, а потому не могу даже с уверенностью определить, что я, в сущности, такое». Эта динамика взаимосвязи между отдельным человеком и его окружением еще ярче выявляется в словах Бернарда из его заключительного монолога: «когда я встречаю незнакомого человека и хочу показать ему, здесь, за этим столом, то, что я называю "моя жизнь", я не на одну жизнь оглядываюсь; я не один человек, я – несколько; я даже не могу с уверенностью сказать, кто я – Джинни, Сьюзен, Невил, Рода, Луис; и как мне отделить от их жизней – свою».
Эти рассуждения Бернарда предвосхищают концепцию французского философа Э. Левинаса, согласно которой, чтобы осознать свою самость, человек нуждается в зеркальном отражении своей личности в окружающих. Без другого нет себя, и такое решение проблемы личности выделяет Вулф из всего модернизма, она по-новому вписывает своих героев в человечество, ей претит излишнее раздувание самобытности, как явствует из слов Бернарда:
А теперь вот я спрашиваю: «Кто я?» Я говорил про Бернарда, Невила, Джинни, Сьюзен, Роду и Луиса. Кто же я – они все вместе? Или я – неповторимый, отдельный? Сам не знаю. Мы здесь сидели, все вместе. А теперь Персивал умер, и Рода умерла; мы разделены; нас здесь уже нет. Но я не вижу препятствия, которое нам мешает. Не чувствую между ними и собой разделенья. Вот я говорил и думал: «Я – это вы». Самобытность, с которой все мы так носились, личность, которую мы так раздували, – хватит, зачем все это.
Каждый из монологических голосов романа бесспорно узнаваем и наделен собственной индивидуальностью, но в моменты наиболее напряженной духовной жизни, в моменты прозрения, границы индивидуального сознания исчезают, и «я» становится частью некоего мистического целого, которое превосходит любые физические и пространственные рамки.
Для такой концепции личности позитивистский роман с его строгими причинно-следственными связями не подходит, и личность у Вулф строится не по линейному закону саморазвития, а включает в себя истории всех связанных с нею людей. Вулф сочиняла роман, слушая музыку Бетховена (его имя не случайно дважды появляется на страницах «Волн»), и индивидуальные монологи звучат не как разноголосица отдельных мелодий, а сливаются в единую, сложно оркестрованную симфонию. Это особенно очевидно в сценах, связанных с Персивалом: в первой, когда всем персонажам около двадцати пяти лет и они провожают Персивала в Индию, где он вскоре умрет; и во второй, когда в зрелом возрасте они обедают в Хэмптон-Корте и вспоминают своего друга.
Персивал – единственный персонаж в романе, данный исключительно через восприятие других, центр притяжения для них именно потому, что в нем нет внутренней раздвоенности и саморефлексии прочих персонажей. Персивал, с их точки зрения, – герой, капитан школьной команды по крикету, спортсмен, охотник, воплощение имперского духа, нормальности. Персивал создан по тем самым законам определенного, даже литературно-условного характера, которые Вулф опровергает во всех остальных персонажах. И все устремляются к Персивалу, как к оплоту стабильности, подобно тому, как мотыльки слетаются на свет лампы. Пока Персивал не появляется в ресторане, каждый ощущает какую-то нехватку, пустоту, чувствует себя картонным силуэтом на фоне декораций, а с его появлением они превращаются в единое целое, он – их проводник в мир предметов и физических явлений, в его присутствии замолкает субъективность, и все члены кружка гармонично дополняют, завершают друг друга.
В образе Персивала видно, что хотя модернисты считали представление о неизменности, объективности человеческой личности устаревшим, ностальгия по этой объективности, по «совершенному человеческому существу» была свойственна и им. Но связанные с Персивалом (и в меньшей степени с Луисом) идеи контроля, авторитета, власти вступают в противоречие с преобладающей в романе концепцией личности как разноуровневых пересечений множественных «я», как вечного потока, круговорота. Любая упорядоченность этого потока может быть только ложной, кажущейся, и нелепая, случайная смерть Персивала (его лошадь споткнулась о кротовую кучу, он упал и разбился) символизирует нежизненность его позиции и тех идеалов, которые он представлял.
Если разные герои «Волн» воплощают разные стороны личности их создательницы, то ближе всего к биографической Вирджинии Вулф стоят двое – Бернард и Рода, которых она наделяет собственными заботами, снами и видениями.
О профессии Бернарда в романе ничего не говорится, зато очень много сказано о его одержимости фразами, о записной книжке, куда он вносит на будущее свои заметки, о таланте изобретать истории из любого мимолетного, тривиального впечатления. Бернард тем самым – прирожденный рассказчик, прирожденный романист. Он главный рассказчик в группе своих друзей, его монологи чаще всего открывают очередные разделы романа после интерлюдий, именно ему автор доверяет финальный монолог, подведение итогов романа. В молодости это умение обращаться со словами было источником чистой радости для Бернарда, но на склоне дней, исполняя предсказание Невила о том, что его дар будет растрачен втуне, он разочаровывается во всевластии слов:
мы, как дети, рассказываем друг другу истории, и, чтобы их разукрасить, сочиняем смешные, цветастые, красивые фразы. Как мне надоели эти истории, эти фразы, прелестно, всеми лапками шлепающиеся наземь! Да, но от четких очерков жизни на полушке почтовой бумаги – тоже ведь мало радости. Вот поневоле и начинаешь мечтать об условном лепете, какой в ходу у влюбленных, о речи обрывистой, неразборчивой, как шарканье по панели. Начинаешь искать план, более соответственный тем минутам побед и провалов, которые неопровержимо набегают одна на другую.
Это сама Вулф вкладывает в уста Бернарда свое разочарование в возможности слова передать глубинные ритмы жизни. В одном из писем периода создания романа она жалуется: «мои фразы – только приблизительны, это сеть, закинутая за морской жемчужиной, которая может в любой миг потеряться». Это осознание ограниченности возможностей слова, непреодолимой заданности романной формы очень скоро, уже у Беккета, приведет литературу XX века к отказу от слова вообще, к молчанию.
В ранней сцене в школе Невил скептически слушает Бернарда, рассказывающего свои истории на поле для крикета:
Бернард – проволока болтающаяся, порванная, но неотразимая. Да, и когда он болтает, нижет свои дурацкие образы, душа делается пустая, легкая. И сам течешь и пузыришься, как это его журчанье; высвобождаешься; чувствуешь: я спасен. ...Фраза спотыкается, увядает. Да, настал жуткий миг, когда власть Бернарда ему изменяет, и никакой уже связной фабулы нет, и он оседает, он дрожит, как рваная проволока, и умолкает, разинув рот, будто вот-вот разревется. Среди мук и опустошений, которые держит за пазухой жизнь, есть и такое – наш друг не в силах закончить свою историю.
В «Волнах» Вулф с блеском закончила историю, разрешив задачу такой технической сложности, которую до нее никто не ставил – это первый роман в мировой литературе, использующий коллективный внутренний монолог, с элементами коллективного потока сознания.
Сегодня читатели романа разделены на две группы: первая не приемлет искусственность внутреннего монолога в романе и оценивает его как неудачный трюк, вторую группу составляют те, кто сразу влюбился в роман, видя в нем единственный в своем роде шедевр, в котором сквозь поверхность экспериментального повествования можно увидеть все проблемы традиционного социально-психологического романа. В отличие от простых читателей, критики, изучающие творчество Вулф, единодушно полагают, что рядом с «Волнами» во всем предыдущем творчестве Вулф можно поставить разве что роман «На маяк», а с точки зрения темы и формы «Волны» самый экспериментальный, самый сложно организованный текст Вирджинии Вулф.