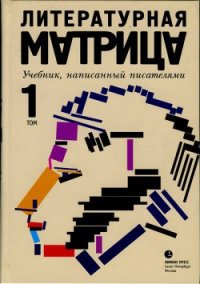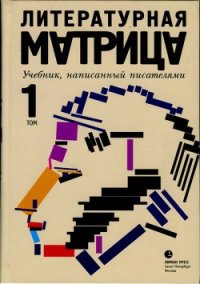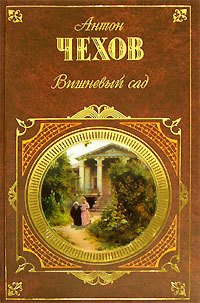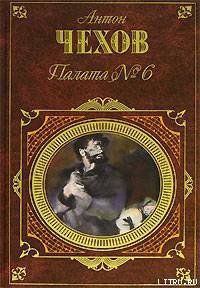Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Нельзя не восхититься достойной интонацией Штейгера, но дела это не меняет. И хотя понятно, что эгоцентризм поэта — и есть та питательная среда, которая помогает произрастать стихам (а реальная почва, действительный жизненный сюжет для их создания — это не наше дело), но в каких-то стихах Цветаевой этот гумус прорывается в сами стихи, все собой заполняя, а в каких-то остается там, где ему и положено быть, — внизу.
«Поэму Конца» можно назвать абсолютным шедевром Цветаевой именно потому, что здесь происходит-таки чудо преображения. Прочитав этот текст, потрясенный Борис Пастернак писал Цветаевой 26 марта 1926 года: «Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами, (…) ту бездну ранящей лирики, микельанджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется „Поэма Конца“».
Это очень честная история. И даже последнюю фразу этого фрагмента («Нет, вовсе их не пишите, книг…») я воспринимаю как высокую самоиронию, хотя эта реплика и отдана Цветаевой ее собеседнику.
Такая же честность есть и в коротком стихотворении «В мыслях об ином, инаком…» (из цикла «Стихи сироте», 1936). Оно как бы продолжает тему стихотворения «Сад»: поэт просит дать ему для покоя единственное, что ему необходимо, — сад и только («За этот ад, / За этот бред, / Пошли мне сад / На старость лет. / (…) Скажи: довольно муки — на / Сад — одинокий, как сама. / (Но около и Сам не стань!) / — Сад, одинокий, как ты Сам»). То есть дать полное и осознанное одиночество. И вот это одиночество дается. Человек уже один. Все, о чем он попросил (по-настоящему), выполнено. Он идет один по полю с маками, о чем-то думает…
В этом позднем стихотворении, как мне кажется, начинается та Цветаева, чье воплощение до конца нам уже никогда не увидеть. К нашему сожалению и нашей потере. «Третья» Цветаева. Которая могла бы быть, если бы в 1941 году жизнь ее не оборвалась.
Ибо безмерность (а именно это слово так любят цветаевоведы) — это ощущение того, что ты можешь принять в себя ВСЕ меры и ВСЕ миры (неважно, близки они тебе или нет, враждебны или дружественны), — а не бессильная борьба с чужими границами, через которые ты хочешь прорваться.
Иначе ты становишься таким гипертрофированным гоголевским носом, который ушел гулять без хозяина.
Все поэты в некоторой степени такие «носы», но только Цветаева, с ее огромным даром, показала, какая это на самом деле катастрофа — отпустить себя на волю, своевольничать до конца, «распухнуть» до отдельной черты характера (такого человеческого, увы, а не ангельского). Спасибо ей за этот урок. Поэты вообще ставят эксперименты сами на себе. Без анестезии и со всеми вытекающими из этого последствиями. Дело читателей — понять, куда идти не надо, и поблагодарить человека, который принес себя в жертву, чтобы еще при жизни стать этим предупреждающим знаком: «Прохода нет. Кирпич».
Но вернемся к этой наметившейся и, возможно, никому не очевидной, кроме меня, пунктирной линии «третьей» Цветаевой — уже на излете ее человеческой жизни.
…В начале 1941 года Цветаева пишет два последних стихотворения. Оба очень сильные (хотя многие цвета-евоведы заканчивают говорить о ее стихотворных удачах после «Стихов к Чехии»). Это датированное 6 марта стихотворение, обращенное к Арсению Тарковскому [274], — и такое вот четверостишие:
Эти четыре строчки написаны Цветаевой в феврале 1941 года.
Уже после возвращения в Россию, когда вся ее семья оказалась провернута в сталинской мясорубке.
Когда до войны с Германией оставалось несколько месяцев, и общество было наполнено тревожными ожиданиями.
И тем поразительнее, что это стихотворение не о грядущей смерти (хотя цветаевоведы видят в нем именно предчувствие смерти; да и я так его понял в свои шестнадцать лет, когда прочел впервые).
Оно — не о смерти.
Оно — о другом.
Оно — об осознании (спокойном, не лишенном, конечно, горечи, но тем не менее повторюсь, спокойном) насущной необходимости в отказе от привычной и такой желанной до сих пор своей женской жизни. (Ведь зажженный фонарь — это сигнал влюбленному, что его возлюбленная дома и к ней можно прийти. «Пора гасить фонарь» — пора менять свою женскую сущность. Пора менять сущность вообще. Менять кожу.)
Это стихотворение — о переходе на новый уровень.
Когда ты осознаешь, что счастье не связано с тем, любят тебя или нет. Понимают тебя или нет.
Когда пупок или низ живота умолкают — и наконец действительно может заговорить душа (или Психея, если угодно).
И мне кажется, что Цветаева, если бы ее жизнь продлилась еще на долгие годы, показала бы нам (протянула на ладони) на закате своей жизни опыт просветленной старости.
И это было бы — бес-пре-це-дент-но.
Потому что кто — кроме нее — смог бы вернуться, как бы описав круг, в счастливое время своих детства и юности?
Вернуться в свое олимпийское эгоистическое всепри-ятие.
Стать этаким Гете в юбке.
И такая судьба была бы совершенно ослепительной: жизнь с таким веселым и легкомысленным началом, с такой ломаной, надрывной серединой и с таким буддийским концом.
Но этого не произошло.
31 августа 1941 года в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой…
Думая про Цветаеву (как про себя — но себя, доведенного в эгоизме и эгострастии до предела), вспоминаешь один урок.
…Когда сначала пахнет дымом, а потом пылью, когда вечера становятся длинными, а улицы полупустыми — в общем, в апреле — всегда повторяется одно и то же.
Идешь по еще не загустевшей весне и думаешь, что ничего не дождался.
Ничего, что тебе было нужно, не случилось.
«Того, что надо мне, того на свете нет», — вот, условно говоря, что ты думаешь.
…Как из могилы, из праха, из быстрой апрельской дымки…
(Апрель и вообще для этого — для тоски об инаком. Такое у него, видимо, назначение. Он тоже, наверное, хотел — иначе. Притворялся бурным цветеньем или встречей. Не получилось.)
274
Речь идет о стихотворении «Все повторяю первый стих…» с эпиграфом «Я стол накрыл на шестерых…» — из посвященного Цветаевой стихотворения А. А. Тарковского (1907–1989), с которым Цветаева познакомилась в 1940 т. — Прим. ред.