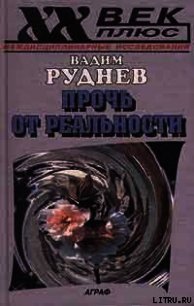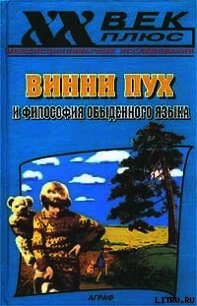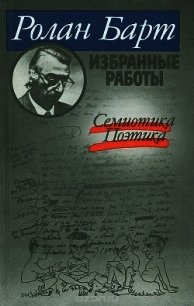Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
При этом, если с точки зрения Мелани Кляйн, на параноидной стадии исчезновение груди интерпретируется ребенком как исчезновение и полная потеря мира, то, находясь на депрессивной позиции, он ощущает скорбь и стремится восстановить разрушенный вследствие исчезновения материнской груди мир путем интроекции ее образа. К тому же теперь ребенок реагировал на потерю груди не паранояльно-проективно, а деперессивно-интроективно, то есть не посредством ненависти, а посредством вины, он считал, что «сам виноват» в том, что мать = грудь исчезла. Чувсто вины за потерю, по мнению Кляйн, является наиболее универсальным концептом при меланхолии [Кляйн, 2001] и более зрелым, чем паранойяльное чувство ненависти. (Если перефразировать эту идею на обыденном языке, то в принципе более зрелым является чувствовать свою вину и связанную с ней ответственность за что-либо, чем при тех же условиях стремиться «свалить все на другого» (обыденный коррелят проекции)).
Вот что пишет сама Мелани Кляйн по поводу всего этого:
Всякий раз, когда возникает печаль, нарушается ощущение надежного обладания любимыми внутренними объектами, т. к. это воскрешает ранние тревоги, связанные с поврежденными и уничтоженными объектами, с разбитым вдребезги внутренним миром. Чувство вины и тревоги – младенческая депрессивная позиция – реактивируются в полную силу. Успешное восстановление внешнего любимого объекта, о котором скорбел ребенок и интроекция которого усиливалась благодаря скорби, означает, что любимые внутренние объекты реконструированы и вновь обретены. Следовательно, тестирование реальности, характерное для процесса скорби, является не только средством возобновлений связи с внешним миром, но и средством воссоздания разрушенного мира. Скорбь, таким образом, включает в себя повторение эмоциональных ситуаций, пережитых ребенком с депрессивной позиции. Находясь под давлением страха потери любимой им матери, ребенок пытается решить задачу формирования и интегрирования внутреннего мира, постепенного создания хороших объектов внутри себя [Кляйн, 2001: 314].
Здесь чрезвычайно важно то, что при депрессии сохраняется, а на депрессивной позиции, в сущности, начинается тестирование реальности, то есть разграничение внутренного и внешнего мира. Отсутствие этого разграничения – признак психоза, то есть, по Мелани Кляйн, наиболее ранняя позиция младенца по отношению к груди – соотносится с психотическим воспрятием, а более зрелая депрессивная позиция ближе к невротическому восприятию. Первая соотносится с шизофренией, вторая – с маниакально-депрессивным психозом. Вторая лучше, чем первая, своей большей связью с реальностью и позитивным прогнозом (успешное прохождение депрессивной позиции, по Мелани Кляйн, гарантирует нормальное развитие в дальнейшем).
2. ДЕПРЕССИЯ И ДЕСЕМИОТИЗАЦИЯ
Тем не менее, за это целостное и суверенное восприятие мира при депрессии платится очень большая цена, суть которой можно описать как утрату ценности и смысла мира в качестве реакции на утрату любимого объекта.
Мир, из которого изъят любимый объект, теряет всякую ценность, и, соответственно, жизнь теряет всякий смысл. Об утрате смысла как специфическом депрессивном феномене наиболее подробно писал, конечно, В. Франкл:
…пациенту, страдающему эндогенной депрессией, его психоз мешает увидеть какой-либо смысл в своей жизни, пациент же, страдающий невротической депрессией, мог получить ее из-за того, что не видел смысла в своей жизни [Фракнл, 1990: 89].
Здесь мы вернемся к сопоставлению депрессии с паранойей (подробно см. предыдущую главу). Мы можем сказать, что если при паранойе имеет место гиперсемиотизация реальности: каждый элемент реальности наполнен смыслом, – то при депрессии происходит противоположное – десемиотизация реальности: практически все элементы реальности теряют смысл.
Но десемиотизированная реальность, по нашему мнению, вообще перестает быть реальностью, поскольку реальность – это и есть в принципе семиотическое образование: чтобы воспринимать вещи как вещи, нужно владеть языком вещей (ср. [Пятигорский, 1996], то есть вещь, не воспринятая знаково, вообще, строго говоря, не может быть никак воспринята – для того, чтобы воспринять вещь «стол», необходимо знать слово «стол», понимать его смысл; собака, которая смотрит на стол, в человеческом смысле не воспринимает вещь «стол» (ср. ниже цитату из А. Ф. Лосева о феноменологии ощущения)).
В чем же конкретно проявляется десемиотизация реальности при меланхолии?
Для депрессивоного человека мир прежде всего теряет интерес, поскольку депрессивная личность полностью сосредоточивается на интроецированном потерянном объекте любви и на своей фантазматической вине перед ним. Этот единственный объект и обладает повышенной ценностью для меланхолика. Ценностью, но не знаковостью, поскольку этот объект помещается где-то внутри, как бы проглоченный целиком, непереваренный (понимание интроекции как псевдометаболизма было подробно обосновано Ф. Перлзом в книге «Эго, голод и агрессия»:
«Эго», построенное из содержаний, из интроекций, есть конгломерат – чужеродное тело внутри личности – так же как и совесть, и утраченный объект при меланхолии. В любом случае мы обнаруживаем в организме пациента инородный, неассимилированный материал [Перлз, 2000: 172].)
Однако при депрессии интроекция может не ограничиваться «поглощением утраченного объекта любви». Здесь может иметь место и часто действительно имеет место нечто противоположное, хотя его тоже можно обозначить как своеобразную разновидность интроекции. Это интроецирование самого депрессивного Я, отгораживание от мира в некую непроницаемую среду, в некий депрессивный кокон. В этом смысле Я выступает не как сосуд, не как субъект интроекции, но как интроецируемый объект. Наиболее ясным невротическим прообразом того, о чем мы говорим, является известное уже классическому психоанализу (в особенности, после книги О. Ранка) стремление вернуться обратно в материнскую утробу, поскольку, как писал Фрейд в «Торможении, симптоме и страхе», травма рождения это не просто травма, но это травма утраты питающей безопасной среды [Freud, 1981a]. То есть можно сказать, что депрессивная реакция «назад в утробу» является репаративным стремлением возместить утраченный объект любви, понимаемый архаически как некая защитная оболочка. Так депрессивный человек часто заворачивается с головой в одеяло, чтобы не видеть и не слышать потерявшего всякий смысл и ценность мира и погружается в депрессивную спячку, прообразом которой является пребывание в утробе матери.
Эта тормозная, изолирующая депрессивно-интроективная реакция на травму, своеобразный эскапизм, анализируется Э. Фроммом на примере истории пророка Ионы, который, не питая интереса к миру, не хотел подчиниться воле Бога и взять на себя миссию пророка в Ниневии (уклонение от социальных обязанностей – один из характерных признаков депрессии), после чего он изолировал себя вначале, уплыв на корабле, потом, когда сделалась буря, он лег в трюм и заснул, а когда матросы выбросили его в море, его поглотила огромная рыба (в русском традиционном переводе – кит) [Fromm, 1956]. Это пребывание во чреве кита – прообраз депрессивного стремления уйти от мира, который потерял смысл.
На другом языке примерно ту же проблематику отсутствия интереса к миру и поглощения Я исследует В. Я. Пропп в работе «Ритуальный смех в фольклоре». Речь здесь идет о сказке про царевну Несмеяну. Царевана не смеется, у нее депрессия, ее надо рассмешить. Для этого надо сделать непристойный эротический жест – актуализировать и семиотизировать мир вокруг депрессивного человека, что и делает принц. Царевна смеется, что является семиотическим показателем ее готовности к сексуальным отношениям, то есть к возвращению интереса к актуальному миру и своим женским социальным обязанностям. Другой вариант сказки, – рука царевны обещана тому, кто узнает ее приметы (сексуальные, конечно) – то есть нечто также семиотическое в принципе. Принц или другой герой обманом заставляет принцессу поднимать платье все выше и выше, пока она ему не показывает свой половой орган (сказка об этом последнем умалчивает, но Пропп считает, что это вполне очевидно) [Пропп, 1976].