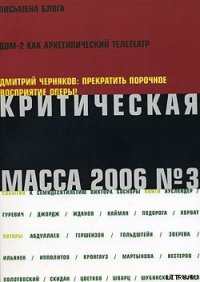Критическая Масса, 2006, № 1 - Журнал Критическая Масса (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации TXT) 📗
История ничему не учит (с. 465 след.), соглашусь я с Гумбрехтом, но вовсе не потому, возражу я ему, что историография — не слишком надежное средство для постижения и убедительной репрезентации прошлого. История не составляет примера для настоящего, ибо и настоящее — история, то есть поле, в котором происходит порождение нового, иного, чем прежде. В конце концов и постисторизм — нечто, до того небывалое, и, стало быть, один из этапов исторического процесса, преходящий, как и все прочие его моменты. Мнимость объективизма, которого добивается Гумбрехт, проистекает из того, что предлагаемые нам иллюстрации, призванные сделать наглядной повседневность двадцатых, непростительно затуманивают главное в истории — ее творческую сторону. Даже любимый Гумбрехтом трактат «Бытие и время» прочитан им под занавес исследования таким способом, что Хайдеггер предстает лишь медиумом своей эпохи, уловителем ее токов и настроений, а вовсе не одним из ее создателей (с. 496 след.). Гумбрехту ничего не стоит загнать в одну выстроенную им шеренгу символиста Метерлинка и сюрреалиста Арагона, раз оба публиковались в 1926 году. То обстоятельство, что сюрреализм являет собой другой и более поздний, чем символизм, тип креативности, нисколько не занимает Гумбрехта. Его книга пестрит подобными совмещениями диахронически несовместимого. Анахронизмы не идентифицируются в качестве таковых в труде, анахроничном по своей методологии. Обсуждаемые в нем тексты слишком часто утрачивают свой центральный смысл, не будучи взятыми в виде актов, преобразующих до того сложившиеся ситуации. «Третья фабрика» Шкловского, ознаменовавшая кризис формализма и содержащая многозначительные эпистолярные обращения автора к соратникам по школе, упоминается (с. 75) в главе о боксе (если уж на то пошло, то Шкловского, как известно, много больше увлекала классическая борьба). Знаменитый выпад Карла Шмитта против Лиги Наций пересказывается так (с. 186—187), что умолчанию подвергается основной и имевший в Германии роковые последствия тезис этого философствовавшего юриста, выдвинувшего на первый план право государства вводить чрезвычайное положение 3. «Замок» Кафки служит свидетельством того, что телефон воспринимался людьми двадцатых как инструмент, иерархизирующий социальные отношения (с. 257—259). Право же, метафизический роман Кафки — не об этом. Философское содержание «Замка» допускает разные интерпретации. Единственное толкование, которое в данном случае полностью исключено, — то, что превращает Кафку в бытописателя. Я склонен полагать, что невнятица, которую слышит Землемер в телефонной трубке, пытаясь связаться с высшими силами, имеет назначение продемонстрировать абсурдность апофатического мира. Но не буду настаивать на моем мнении. История полна альтернатив, и только поэтому мы обладаем определенной свободой в понимании производящих ее и производимых ею текстов. Менее всего мне хотелось бы подвергнуть эти герменевтические вольности одноплановому ограничению.
Прокламируя желание приобщиться миру, который имел место в 1926 году, неким чувственным образом, без обиняков, Гумбрехт критикует американский «новый историзм» за текстуализацию истории, за забвение «реальности» (с. 469 след.). У меня нет намерения пускаться в этой рецензии в споры о «новом историзме» — изрядно надоевшие. Я позволю себе только два замечания по поводу заявления Гумбрехта. Во-первых, одно из многочисленных противоречий его монографии состоит в том, что историческая «реальность» восстанавливается здесь главным образом в своих текстовых отражениях и преломлениях (по художественным произведениям, дневникам, воспоминаниям, газетным сообщениям и т. п.). В отличие от Стивена Гринблатта и его единомышленников Гумбрехт, текстуализуя историю, не делает из этого никакой методологической проблемы. И второе. Что Гумбрехт подразумевает под «реальностью», во-многом остается непроясненным. Он закрывает глаза на психофилософию Жака Лакана и Славоя Жижека, показавшую, сколь сложно определить это понятие в его соотнесенности с имагинацией и символизацией. Объяснительные усилия Гумбрехта исчерпываются ссылкой на позднего Гуссерля, противопоставившего в лекциях 1930-х годов «Lebenswelt» дискурсивной сфере, погрязшей в автономном становлении. Нельзя сказать, что Гуссерль придал «жизненному миру» строгую очерченность — он был поглощен в первую очередь критикой европейской культуры. Но дело даже не в том, что, отождествляя «реальность» с «жизненным миром», Гумбрехт эксплицирует неизвестное через недостаточно известное. Вся нелепица здесь в том, что он вовсе не исследует ordo naturalis, сосредоточиваясь на том, как раз искусственном, порядке, в котором он застал быт в 1926 году, будь то джаз, пересечение вплавь Ла-Манша, кремация или появление на культурной сцене виртуозов голодания («Hunger Artists»).
В одной из начальных глав книги нас знакомят с открытием гробницы Тутанхамона, случившемся в 1925 году. Несколько насильственное включение этого сюжета в обзор событий 1926 года имело для Гумбрехта, надо думать, оправдание, выходившее за рамки хронологии. Контакт археолога с мертвым и все же осязаемым прошлым, с мумией подобен тому, к чему стремился Гумбрехт, как бы пробуя на ощупь двадцатые. Фараоны мстят тем, кто тревожит их покой, в легендах, эксплуатируемых Голливудом. История творит возмездие на деле. Она карает ученого, который лишь скользит по поверхности ее фактов, лишая его мысль внутренней стройности, называемой логикой.
Бывают ли роковые года?
Теперь мне нужно было бы забыть многое из сказанного выше, потому что я приступаю к разбору глав, в которых Гумбрехт совершает внезапный поворот, направляющий его от феноменального рассмотрения истории к ее герменевтическому прочтению. Как сочетаются оба подхода, нам не сообщается. В финальных разделах книги, следующих за герменевтическими, Гумбрехт продолжает настаивать на том, что его целеустановка заключалась по преимуществу в старании воссоздать те чувственные образы, в которых в 1926 году воспринималась действительность. Но так очерченная задача перестает волновать его, когда он берется за реконструкцию предпосылок, обусловивших эти образы. Мы имеем дело с разорванным сознанием ученого, с двумя Гумбрехтами, один из которых провозглашает, что знание истории равно видению таковой, тогда как другой углубляется в ее смысловую толщу. Гумбрехт охотно признает свою парадоксальность. Вообще говоря, парадокс убеждает в том, что противоречие истинно (что Ахиллес никогда не обгонит черепаху). Противоречия, в которые впадает Гумбрехт, напротив того, неснимаемы.
Смысловая глубина двадцатых моделируется как ряд категориальных напряжений, в которые были втянуты люди этого времени. Силовое поле, в каковом они пребывали, образовывалось, согласно Гумбрехту, между такими полюсами, как аутентичность / искусственность, прямое действие / бессилие, имманентное / трансцендентное, коллективное/индивидуальное, центр / периферия и т. д. Там, где есть оппозитивность, присутствует и возможность ее нейтрализации, выхода из зажима. Например, напряжение между прямым действием и бессилием примирялось в трагедийном взгляде на акцию, ценящим ее, даже если она «неэффективна» (с. 411). Точно так же: конфликт коллективного и индивидуального разрешала фигура вождя, столь значимая в пору, когда нарождались европейские тоталитарные режимы. Гумбрехт прослеживает и другие пути, на которых преодолевалась оппозитивность, характерная, по его мнению, для 1926 года, — и синхронизирует при этом (что бы он ни говорил о Никласе Луманне и так называемом «радикальном конструктивизме») мучительно знакомую триаду, положенную Гегелем в основание его философских представлений о диахронии, об алгоритме истории, влекомой становящимся самосознанием к синтезу противоположностей. Раз релевантно одно всегдашнее настоящее, то почему бы не впустить в 1926 год и Гегеля (от которого Гумбрехт на словах всячески открещивается)?
Сколь бы головной ни была синхронизация гегелевской схемы, некоторые из реконструкций, предпринятых Гумбрехтом, кажутся мне заслуживающими учета и сочувственного отклика. Сказанное относится в первую очередь к постановке вопроса о трансцендентном (который пунктиром был намечен уже в первой части книги). Я согласен с Гумбрехтом в том, что люди двадцатых остро ощущали утрату инобытия, будучи озабоченными тем, как ее компенсировать, что их поведение и мышление в значительной степени мотивировались неразличением имманентного и трансцендентного, что свойственная им готовность к риску и героизму, их экстатичность и экстремальность объясняются отчаянной жаждой тех, кто выпал из религии, шагнуть за смерть еще при жизни.