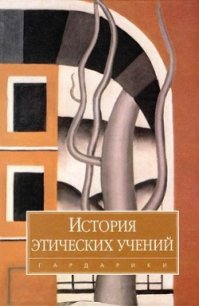Зарубежная литература XX века: практические занятия - Коллектив авторов (мир бесплатных книг .TXT) 📗
Воспроизведение конкретно-исторической последовательности событий, нейтральный тон повествования, многочисленные подробности (сроки, условия выступления, обслуживающий персонал) создают эффект хроники. Особенно у первых читателей этот текст должен был вызывать в памяти картины современной им действительности. Но при чтении трудно избавиться от ощущения нереальности происходящего. Речевые обороты «то были другие времена» [17], «так жил он долгие годы», «в один прекрасный день» настраивают нас на сказочный лад. Но главное – логика существования протагониста доводится до крайней точки, до абсурда, и это превращает его из исторической фигуры в мифическую, общезначимую, а всю историю – в развернутую метафору или формулу, где за искаженными, но все же узнаваемыми знаками скрывается особый тайный смысл.
Один из возможных вариантов прочтения рассказа – рассматривать голодаря как образ художника, творческой личности. Уже наименование новеллы направляет нас к такому пониманию. «Ein Hungerkunstler» можно передать как «мастер искусства голодания», «художник голодания». Деятельность голодаря не раз названа в новелле искусством, а ее описание и, прежде всего, отношение мастера к своему труду подчеркивают ее творческий характер.
История голодаря состоит из двух частей. В первой части в ретроспективном освещении рассказывается о том, что было «раньше», во второй части излагается современное повествователю положение дел. Эти две части соответствуют двум этапам творческого пути: сначала художник наслаждается славой, вниманием публики, затем интерес к его искусству пропадает, и он умирает всеми покинутый, в безвестности.
И первый, и второй этап не приносят художнику удовлетворения, хотя и по разным причинам. В пору своей известности голодарь вынужден ограничивать свое мастерство в угоду публике, он не может довести свое искусство до совершенства, он должен мириться с неумолимыми законами рынка.
Импресарио установил предельный срок голодовки – сорок дней, дольше он никогда не разрешал голодать, даже в столицах, и на то была серьезная причина. Опыт подсказывал, что в течение сорока дней с помощью все более и более крикливой рекламы можно разжигать любопытство горожан, но потом интерес публики заметно падает, наступает значительное снижение спроса. ...Почему надо остановиться как раз теперь, на сороковой день? Он выдержал бы еще долго, бесконечно долго, зачем же прекращать голодовку как раз теперь, когда она достигла – нет, даже еще не достигла – своей вершины?
Но еще больше, чем порядок, установленный импресарио, голодаря ранит непонимание публики. Публика в новелле выступает только как безликая, анонимная толпа. Отдельно выведенные фигуры – импресарио, сторожа, дамы – не выбиваются из общей массы, но лишь подтверждают правило. Отношение зрителей к голодарю – смесь любопытства и недоверия, им не дано постичь истинный смысл его искусства. «Попробуй растолкуй кому-нибудь, что такое искусство голодания! Кто этого не чувствует сам, тому не объяснишь». Один художник является истинным ценителем своего искусства: «...только он сам и мог быть единственным удовлетворительным свидетелем голодовки». Пропасть между художником и толпой непреодолима («Бороться против подобной, против всеобщей неспособности понять его было невозможно»), и потому он обречен на одиночество:
Так жил он долгие годы, время от времени получая небольшие передышки, жил, окруженный почетом и славой и все же почти неизменно печальный, и печаль его становилась все глубже, оттого, что никто не способен был принять ее всерьез.
Во второй части у голодаря, который предоставлен самому себе, появляется шанс осуществить свою мечту – «...голодать еще дольше и стать не только величайшим мастером голода всех времен – им он и без того уже стал, – но и превзойти самого себя, ибо он чувствовал, что его искусство голодать непостижимо, а способность к этому безгранична». Он может предаваться своему искусству без ограничений, совершенствоваться бесконечно, но теперь это не приносит удовлетворения. «И хотя маэстро все голодал и голодал, что когда-то было его мечтою, и голодал без всякого усилия, как и предсказывал прежде, – никто уже не считал дни, даже сам голодарь не знал, сколь велики его успехи, и горечь жгла его сердце». Причина этой горечи проста – публика равнодушно проходит мимо. Та самая толпа, которую голодарь, погруженный в себя, вроде бы не замечал, которая не понимала его искусства и оскорбляла его честь, оказалась ему необходима: «Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать». Только зрители придавали смысл его искусству и жизни. Только их внимания он страстно желает и перед их судом трепещет. Такова трагедия существования художника: публика не понимает его искусства, но без зрителя оно теряет смысл.
Ситуация усугубляется еще и тем, что для художника Кафки искусство равнозначно жизни. Это не ремесло, работа или увлечение, а форма существования. Форма, конечно, крайне отличная от жизни обычных людей, но для голодаря единственно мыслимая. Парадоксальный диалог в конце новеллы демонстрирует это:
– Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать, – сказал маэстро.
– Что ж, мы восхищаемся, – с готовностью согласился шталмейстер.
– Но вы не должны этим восхищаться, – произнес голодарь.
– Ну, тогда мы не будем. Хотя почему бы нам и не восхищаться?
– Потому что я должен голодать, я не могу иначе.
Тема вынужденности голодания звучит с самого начала произведения («Только он один знал – чего не ведали даже посвященные, – как в сущности легко голодать. На свете нет ничего легче»). У Кафки она сочетается с мотивом вины художника. Если недовольство собой из-за желания достичь совершенства кажется естественным для художника, то персонаж Кафки недоволен собой, потому что он обманывает публику: то, что зрители принимают за мастерство, за достижение, за нечто особенное, для него просто единственно доступное существование. В обычной жизни он нетвердо стоит на ногах, она вызывает у него головокружение и тошноту. Жить, как все, художник так же неспособен, как другие неспособны голодать. И он единственный осознает это: «[я должен голодать], потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться, и наелся бы до отвала, как ты, как все другие» [18]. Голодарь понимает, что его искусство – высокое, недостижимое – не заслуга, а просто данная ему форма жизни. А вот избранничество это или наказание, счастье или мука – вопрос остается открытым. И что такое тогда смерть – пагубное следствие жизни в искусстве или его высшее достижение?
В голодаре Кафки просматриваются черты романтического типа художника. К ним относятся: исключительность персонажа, его уникальность; пропасть, разделяющая художника и публику, недоступность искусства пониманию толпы; близость к художнику детей, лучше взрослых понимающих жизнь и искусство. Слияние жизни и творчества, проживание своего искусства, превращение себя в произведение искусства также восходят к романтизму. На рубеже XIX – XX веков этот тип художественного существования вновь обретает популярность. Тогда же добавляется понимание искусства как гибельного, разрушительного начала.
Жизнь в искусстве чрезвычайно актуальная тема той эпохи была и личной проблемой Кафки. Персонажа новеллы он наделяет собственным видением искусства. Так же как и голодаря, Кафку отличало сложное отношение к публике: он желал и боялся ее внимания, потому так мало текстов было отдано в печать самим автором [19].
И отношения Кафки с внешним миром строились трудно. Инаковость писателя, его неумение жить обычной для всех жизнью хорошо охарактеризовала чешская журналистка Милена Есенская, с которой он познакомился в конце жизни:
17
В оригинале «es waren andere Zeiten» еще точнее отсылает к сказочному зачину «es war/waren einmal...».
18
В оригинале в реплике используется прошедшее время: «я не смог найти...». В последнем предложении употребляется форма сослагательного наклонения Konjunktiv II в прошедшем времени, которая выражает невозможность, неосуществимость излагаемого, «[ich muss hungern], weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hatte ich sie gefunden, glaube mir, ich hatte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle».
19
См., например, письмо Кафки издателю Эрнсту Ровольту по поводу выхода первого сборника рассказов «Созерцание» (1912), из которого ясно, что автор колеблется между самокритикой и желанием увидеть свои тексты опубликованными.