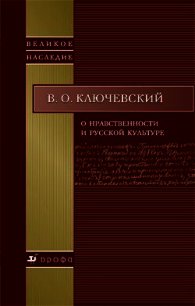Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (лучшие книги читать онлайн TXT) 📗
Вместе с тем очевидно, что в наши дни в модели «язык-литература-культура» литература уже не выступает ведущим элементом. В традиционной филологической модели XIX века литература находилась в самом центре: с одной стороны, она являлась мостиком между языком и культурой, с другой — открывала доступ к тому и другому. Литература была своего рода «королевской дорогой», ведущей к духу нации. В наши дни это уже не так. Прежде всего это связано с тем, что книга уже не является единственным источником информации, наряду с ней существуют фильмы; вместе с тем сегодня наряду с историей литературы существуют такие дисциплины, как история цивилизаций, ментальностей, культур… На фоне затруднений, с которыми связано сегодня распространение французской мысли за пределами Франции, на первый план выходят два имени, которые как нельзя лучше обозначают то, что в качестве современного введения в культуру соперничает с литературой или идет ей на смену: Пьер Бурдьё и Роже Шартье, — не говоря здесь о «Местах памяти» Пьера Нора, которые почти повсеместно воспринимаются как панацея. Но в культурной социологии Бурдьё или в истории книги Шартье о литературе говорится менее всего литературно. Во всяком случае, литература более не может притязать на ту ведущую роль в организации «французских программ», которую она играла в прошлом. Впрочем, многие преподаватели французского языка и литературы были бы только рады, я в этом убежден, если бы эта непосильная задача не ставилась более только перед ними, если бы она возлагалась также на историков, социологов. Таким образом, кризис французского языка заключается прежде всего в переживаемом современным миром кризисе литературы: и французский язык страдает от него больше, чем другие языки, поскольку он в гораздо большей степени отождествлялся именно с литературой.
То есть под сомнением оказывается сама модель (литературоведение, санкционирующее преподавание языка и культуры), в соответствии с которой мы существовали на протяжении целого века, но особенно ощутимым образом с момента окончания Второй мировой войны. Что может заставить нас задаться вопросом, — я выскажу сейчас чудовищную вещь, — не будет ли лучше для литературоведения, для науки о литературе, в современном ее понимании, если французская литература (отделенная от языка и культуры, которые будут преподаваться на кафедре прикладных иностранных языков) будет переведена на кафедры древних языков и литератур, короче говоря, если мы согласимся скорее относиться к французскому как к мертвому языку, чем приспосабливаться к некоему воображаемому спросу (в идеальном случае это спрос мультинациональных компаний, которые заинтересованы в найме местных франкоговорящих сотрудников, при том что им довольно трудно обеспечить себя компетентными англоговорящими сотрудниками, а если это уже достигнуто, они ими вполне удовлетворяются). На кафедрах Classics, где преподается греческий и латынь, но также и итальянский, мы (или, по крайней мере, те из нас, кто не останется без работы в результате такой реорганизации) сможем спокойно заниматься своими учеными изысканиями. В конечном счете, разве с весьма недавних пор преподаватели французской литературы не сталкиваются с необходимостью говорить по-французски? И следует признать, что далеко не все из них говорят блестяще: среди медиевистов вообще мало кто свободно говорит на языке. Ведь от преподавателей древнегреческого не требуется говорить на новогреческом. Почему же от специалистов по французской литературе XVIII века требовать, чтобы они говорили на языке XXI века? Чтобы они знали современную Францию, которая, к слову будет сказано, не так уж интересна, и приобщали к современной французской культуре подростков постколониальных обществ?
Целая масса вопросов связана с этим еретическим предложением (если уж я буду упорствовать в своей роли адвоката дьявола). Если французский (для нужд литературы) перейдет на кафедры античных языков, греческого и латыни, тогда совсем не обязательно будет уметь говорить о ней по-французски. И почему бы в кругу литературоведов не говорить о французской литературе на новоявленной латыни нашего времени, на койне XXI века, то есть на английском? По крайней мере, мы сможем читать друг друга, тогда как публикации на родном языке — на немецком или японском — приводят к взаимонепониманию. Почему бы не провести этот коллоквиум, где я говорю о французском языке, на английском, ведь в этом случае он способен привлечь к этим проблемам гораздо более обширную аудиторию? Я понимаю, что то, что говорю, невыносимо слушать многим из присутствующих. Но ведь следует понимать, что если удел французского заключается в том, чтобы стать древнегреческим языком XXI века, что в общем-то не так уж и плохо (если не говорить о современных греках), то удел английского языка — это удел кухонной латыни: глобализация английского языка — broken English — в качестве основного языка общения явно не содействует процветанию культуры, по крайней мере в нашем ее понимании. К тому же существуют определенные национальные традиции: в Японии занятия по французскому ведутся по-японски, тогда как в Соединенных Штатах сейчас их принято вести по-французски. Но это только с недавних пор и, думается мне, ненадолго: довоенное поколение преподавателей плохо говорило на языке, два следующих за ним поколения хорошо говорили по-французски. Но все это заканчивается. Германистам, например, вообще не свойственен этот языковой фетишизм: курсы по немецкой литературе чаще всего читаются по-английски, даже если преподаватель немецкого происхождения. Причина тут, конечно, и в том, что аудитория не способна воспринимать эти курсы на немецком языке, чего пока не скажешь о французском. Однако есть и другое объяснение: овладение иноязычной культурой не обязательно предполагает высшую лингвистическую компетенцию. Заметим здесь, что не существует ни понятия германофонии, ни понятия англофонии. Так или иначе, но я должен поставить этот вопрос: следует ли мне согласиться говорить о французской литературе на английском языке? Мне случалось отвечать на него положительно, например, когда я выступал в скандинавских странах: помню, я читал по-английски лекцию о Прусте, вслед за которой был семинар на французском, лекция была необходима для этого семинара. Когда Марк Фюмароли приехал в качестве приглашенного профессора в Колумбийский университет, где я заведовал кафедрой французского языка, я попросил, чтобы один из двух его курсов читался на английском языке: таким образом он был открыт и для студентов, изучавших историю искусств. Выйти за рамки французского — значит выйти за рамки университетской дисциплины, в результате его пребывание в Колумбийском университете имело больший резонанс. Французский язык уже не в состоянии рассчитывать на защиту со стороны тех, кто говорит только по-французски, равно как и французская литература не в состоянии сама защитить себя (много ли среди нас историков или социологов?).
Михаэль Кольхауэр
С двух сторон литературы: fibula gallica et germanica
Говорит ли она о письме или о чтении, литература всегда говорит и о себе […]. Зная это, литература всегда не просто говорит нечто, но и говорит о том, что говорит это, и о том, как она это говорит.
Между Францией и Германией существуют не только исторические и политические, но и, в большей степени чем полагают, литературные узы. Они проходят в литературе и сквозь литературу, поскольку та означает обмен или даже конкуренцию текстов и идей или, реже, способов их читать и толковать. Франко-германская литература в прошлом нередко была кривым зеркалом встречных точек зрения, косых взглядов друг на друга; она и ныне порой остается свидетельством скептического или восхищенного внимания друг к другу, неоднозначной поглощенности недостижимым идеалом [9]. Конечно, у литературы нет какой-либо привилегии, избавляющей ее от недоразумений и общих мест. Как и всякое слово и мысль, она связана с тем, что в обществе, истории, культуре остается неотрефлектированным, — с идеологией. По крайней мере, она служит лучшим средством выразить нечто очевидное, когда оно становится привычным (об этом писал еще Жюль Ромен). Ибо в ней создаются, выражаются или сталкиваются, особенно же обрабатываются, те ценности и ментальные привычки, на которых держится история. «Литература той или иной эпохи — это эпоха, переваренная своей литературой» [10]; или, говоря на ином языке: «Полноценная литература — это цельная система жизни, где все связано одно с другим» [11]. Так же обстоит дело и с интерпретацией, если понимать ее как способ воспринимать и оценивать литературу: она либо проверяет постулаты и позиции автора, либо транслирует нормы и смыслы, нередко выходящие за ее пределы.