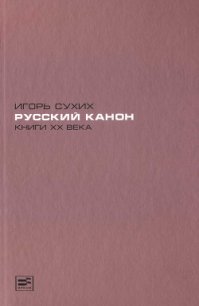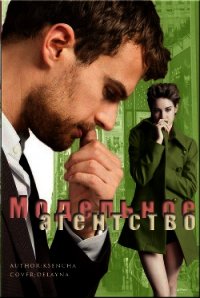Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
А Олеша мог бы как свою рассказать киргизскую сказку (в «Даре» ее вспоминает отец героя) о маленьком, но бездонном мешочке, символизирующем «человеческий глаз, хотящий вместить все на свете», и повторить слова самого Федора о «благодати чувственного познания».
Книга – учебник жизни? В таком случае Олеша написал учебник любви к жизни как таковой, хрестоматию счастья, апологию заговора чувств, антологию искусства как вечного праздника.
«Книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их принимает читатель» – так в полном виде выглядит изречение римского грамматика Теренциана Мавра. Через семь лет после публикации книги, на Первом съезде советских писателей, где Олеша произнес одну из лучших речей, признавшись в абсолютном тождестве с Кавалеровым (а также переводил речь Андре Мальро и зачитывал приветствие ЦК ВКП(б) – знак административного доверия!), автор «Зависти» и его герой часто поминались как актуальный повод для поучений и наставлений.
В. Герасимова защищала героя от автора, видя в Кавалерове «огромное интеллектуальное и эмоциональное богатство», и причисляла его к лишним людям. Для Ю. Либединского герой был ярким, для Ю. Юзовского – уже нарицательным (в хорошей компании, вместе с фадеевским Левинсоном, Остапом Бендером и «братишками» Вс. Вишневского). С. Кирсанов осуждал самокопание с претензиями на бессмертие («Думают, что если посолить свою радость разговорами о нищете поэта, мучениях, поиске в себе “Кавалерова”, то в таком посоленном виде поизведение может сохраниться столетия»), а А. Сурков поддерживал поэтов, которые «шли к нам через преодоление своего внутреннего Кавалерова, через отрицание эфемерных моральных ценностей старого мира» (таким поэтом, оказывается, был Маяковский).
А. Тарасов-Родионов (он будет расстрелян в тридцать восьмом) строго предупреждал: «А Олеша в его поисках красок, в его якобы “бесклассовом” детстве может стать, как бы это сказать, советизированным Прустом».
Вс. Вишневский, видимо, тоже осознавая эту опасность, под аплодисменты зала дружески советовал: «Друг мой, Олеша и все идущие за ним (потому что Олеша – лучший художник, и обязательно за такими, как он, пойдут и начнут подражать), вы пишете о хрустале, о любви, о нежности и прочем. Но при этом всегда должны мы держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда надлежит явиться в случае необходимости».
В. Ермилов, с которым так и «не доругался» перед смертью Маяковский и который еще тридцать лет будет доругивать классиков и современников, даже знал, что делать и как писать: «Здесь разрешается и вопрос о новой метафоре, о которой беспокоился Юрий Олеша в своих “Записках писателя”, о новой образности. Когда художник все больше и больше осознает себя представителем всей страны, в его произведениях появляется и новой художественное качество, и новые образы, и новые метафоры, и новая структура».
Все рецепты и советы катастрофически опоздали. «Зависть» Олеша опубликовал в двадцать седьмом году. «Три толстяка» были написаны тремя годами раньше. К тридцать четвертому к ним добавились около двух десятков рассказов (лучший из них – «Лиомпа»; он должен войти в любую, самую отобранную, антологию малой русской прозы), несколько неудачных киносценариев и пьес (в том числе «Заговор чувств» – драматическая переделка «Зависти»). Потом были многолетнее молчание, литературная халтура, превращение в колоритного персонажа литературного быта. Сборник, вышедший в 1956 году, за четыре года до смерти, за редкими исключениями, включал тексты тридцати-, сорокалетней давности. Книга, известная как «Ни дня без строчки» (1965), была составлена из дневниковых записей и архивных набросков В. Шкловским и М. Громовым. Другая их композиция, появившаяся в самом конце века (1999), названа составительницей (В. Гудковой) «Книгой прощания».
Олеша водил пером по бумаге тридцать восемь лет. Но короткая, написанная, если верить авторским датам, за пять месяцев, в самом начале пути, книжка так и осталась лучшей, практически единственной.
Загадка молчания Олеши неизбежно задевала всех, кто писал о нем.
Для В. Шкловского, на долгом собственном пути не раз поменявшего точки зрения, «мир без глубины» раннего Олеши превратился позднее в феномен «глубокого бурения», поиск новой формы, в результате которого возникали «отрывки-алмазы».
А. Белинков увидел в судьбе этого окруженного «всеобщим литературоведческим обожанием автора» пример «сдачи и гибели советского интеллигента», который «никогда не понимал разницы между прекрасными метафорами и значительными художественными идеями и не всегда отличал правду от лжи, которую слышал от других и писал сам».
Ответы не отменяют новых вопросов. Если бурение было столь глубоким, почему автор так и не добрался до алмазной жилы? Всегда ли интерес к прекрасным метафорам предполагает сдачу и гибель? И вообще, нельзя ли было найти для ее демонстрации более очевидные и подходящие примеры?
Коллизия, которая возникает перед Олешей в начале тридцатых годов – психологического и эстетического свойства. Ни о каком внешнем давлении здесь речи еще нет. (Олеша, в отличие, скажем, от Фадеева или Шолохова, тридцать лет остается молчащим, но пишущим писателем.) Как витязь на распутье, он выбирает из трех дорог: беллетристика, дневник, фрагмент.
Беллетристика с традиционной фабулой, бытовой обстоятельностью, дотошной характерологией кажется ему устаревшей, неинтересной и ненужной. В 1930 году, еще на гребне славы, в тени «Зависти» он торжественно объявляет: «Вместо того, чтобы писать роман, я начинаю сегодня писать дневник. Это гораздо интереснее беллетристики, гораздо увлекательней. Ни с чем не сравнимый интерес возникает при чтении такого рода книг. Пусть хранит меня судьба от беллетристики! Ни в коем случае не марать, не зачеркивать, записывать все, что придет в голову, – без изысков, лапидарно». Но через три недели, повторяя зарок («Да здравствуют дневники! Беллетристика становится легким хлебом»), вдруг спохватывается: «А может быть, я уже разучился писать. “Клей эпоса не стекает с моего пера”. Я пытался начать роман и начал с описания дождя, и почувствовал, что это повторение самого себя, и бросил, придя в уныние и испугавшись: а вдруг “Зависть”, “Три толстяка”, “Заговор чувств”, несколько рассказов – это все, что предназначено мне было написать».
Другой путь – дневник, документ, книги жизни, построенная на биографическом материале. «Герцен писал великолепно (в чисто изобразительном смысле). Тут я найду цитату, где описана старая простуженная обезьяна, жившая в детстве Герцена, на углу печки. Из книг, посвященных обзору собственной жизни, разумеется, самая лучшая “Былое и думы”. Какая удивительная книга написана на русском языке! Эстетической оценки ее как будто нет в нашей критике».
Но правдивое повествование о человеке, случайно попавшемся на дороге истории (слова Герцена о «Былом и думах»), в советском двадцатом веке оказалось невозможным – по объективным обстоятельствам. Наши официальные «Герцены» (Эренбург, Паустовский) начали рассказывать о своем и общем былом лишь в шестидесятые годы, уже после смерти Олеши, а колонна неофициальных во главе с автором «Архипелага ГУЛАГ» появилась на литературном горизонте еще позже.
Склонности, природа дара все время толкают Олешу на третий путь – к фрагментарному «автоматическому письму», короткой записи, построенной на локальном образе, мгновенном впечатлении. Время от времени – иногда с крайним удивлением – он обнаруживает на этой дороге своих спутников. «Трудно в дневнике избежать розановщины». – «Из книжной лавки сообщили, что для меня отложен заказанный мною Монтень. Сейчас я его получу. Никогда не читал его… То, что называется “эссе”, возникло впервые именно под его пером… Стоит обратить внимание на то, что Монтень кроме всего, еще и поэтический критик. Вот бы и мне написать такую статью, в которой мотивированно, а значит и увлекательно для читателя нашли бы место цитаты из русских поэтов – не одна, не две, а целая река цитат». – «У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня».