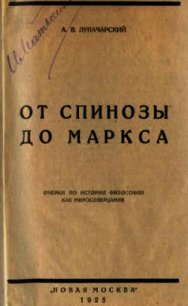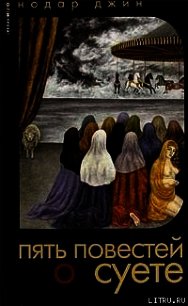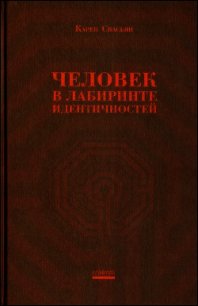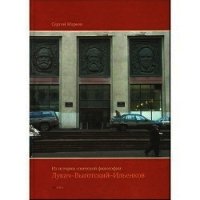РЕЛИГИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ - Луначарский Анатолий Васильевич (читать онлайн полную книгу .txt) 📗
Марксизм обладает другим оружием, только ему, как таковому, присущим, а именно законченным социальным анализом религии. Здесь уже религия поражается в самое сердце. Конечно, многие буржуазные науки, в особенности буржуазный материализм, т. е. лучшие отряды ученых, действующие на революционной заре буржуазии или сохранившие эти традиции, собрали основные факты и дали основные гипотезы относительно происхождения и развития религии и ее роли в истории человечества. Но, как сказано выше, только марксизм дает возможность до дна продумать эти явления и без остатка объяснить религию с точки зрения человеческой экономики, во всей полноте разъяснить ее антинародный характер, ее ядовитую роль в настоящее время и неизбежность ее скорого конца.
С другой стороны, марксизм является порождением пролетариата. Но, конечно, сознательный пролетарий является тем человеческим типом, который уже в настоящее время не нуждается в религии: он тесно связан с наукой и ее прикладной частью — техникой. Он верит, что лишь его программа может дать человечеству счастье, он верит, что социальная борьба под красным знаменем приведет к переходу человечества из царства необходимости в царство свободы. Социализм есть такая общественная организация, при которой общество упорядочивает свою собственную жизнь. Идея провидения, как и идея случая, совершенно изгнана будет тогда из сознания не только теоретически, но и практически повседневным опытом. И так же точно, как человечество освободится тогда от таких постоянных и скорбных своих пунктов, как частная собственность, как государство, так же освободится оно и от своей многокрасочной и многообразной спутницы— религии.
ДАЛЬШЕ ИДТИ НЕКУДА
Данная статья впервые опубликована в журнале «Красная нива», 1924, № 11, а затем напечатана как своего рода послесловие к сборнику «Против идеализма. Этюды полемические» (М., 1924), в котором были переизданы статьи А. В. Луначарского дореволюционного периода с критикой идеализма, мистицизма и богоискательства.
Когда–то давно, среди снегов Вологды, я с грустью констатировал, как блестящий молодой марксистский писатель, первая статья которого о Фрпдрих Альберте Ланге [186] появилась в тогда для нас казавшемся недосягаемым журнале «Neue Zeit» с большим одобрением тогда непререкаемого нами учителя Каутского [187], быстро отходил от марксистских и революционных позиций в сторону туманной и даже черной мистики. Бердяев [188], бывший тогда в ссылке вместе со мной, получил отпуск в Житомир и, кажется, именно там встретился с Булгаковым [189]. Вернувшись назад, он со сверкающими от удовольствия глазами говорил мне: «Вот смелый человек, он уже договорился до веры в Христа».
Когда я рассказал это жившему тогда в том же городе Александру Александровичу Богданову [190], то Богданов изрек такое предсказание: «Вообще Бердяев безнадежен и необходимо превратится через небольшое количество лет в черносотенного писателя». Мне в то время казалось это невозможным, но вся эволюция Бердяева была именно такова. Правда, он не обогнал своего образчика — Булгакова. Если Бердяев, начавший с марксизма, договорился до философски истолкованного православия, но тем не менее православия глубоко церковного и даже изуверского, то Булгаков сам пошел в священники и, как ходят слухи, даже подписывал какие–то погромные антисемитские прокламации.
Но Бердяев всегда казался мне человеком, живущим главным образом жизнью нервов, человеком, физически глубоко больным и очень склонным эпатировать свою аудиторию.
Совсем другое дело Франк [191], бывший тоже столпом и утверждением прогрессивного русского идеализма, чуть–чуть не социалистического, претендовавшего конкурировать с марксистским материализмом. Франк казался мыслителем тонким, благородным стилистом, человеком вдумчивой мысли. Правда, с самого начала пришлось разойтись с ним резким образом, но казалось, что какая–то дисциплина, которая присуща была Франку в несравненно большей мере, чем беллетристу от философии Бердяеву, должна его спасти от слишком большого крушения. Ничуть не бывало. Когда история, взяв в руки метлу, поступила с каждым идеалистом, как с мусором, они, конечно, страшно на нее обиделись. .
Сначала каждый идеалист старался изобразить дело так: грубияны и бунтари–большевики восстали против самых законов истории, они представляют собою уродство, историческую аномалию и история — Кронос [192] — не замедлит сожрать этих своих незаконнорожденных детей.
Но время шло. Большевистский строй упрочился. Он стал бесспорным и незыблемым. Внутренне все эти Франки и Бердяевы прекрасно сознают, что «ужас» утвердился всерьез и надолго. Тогда, конечно, пришлось обвинить историю, Правда, с богословской точки зрения (наши Франки и Бердяевы теперь уже не философы, а богословы) историю как будто винить нельзя. Ведь историей заведует как–никак провидение, «несть власть, аще не от бога» [193] и т. д. Однако богословам не трудно изощриться таким образом, что если не совсем гладко и кругло, то все–таки для поверхностного взгляда приемлемо спасти бога и его репутацию рачительного хозяина на земле. И в наше время судить историю, если не всю целиком, то во всяком случае целый большой ее изгиб, идеалисты берутся при том условии, что ставят вопрос до крайности широко, широко до необъятности. Так поставлен вопрос и в данном случае.
Бердяев в своей статье «Конец Ренессанса»* принимает за доказанное, не подлежащее никакому сомнению, что большевизм вообще — ужас, позор и крушение.
Сборник «София», недавно изданный за границей [194].
Давно ему уже кажется бесспорным и то, что этот позор явился логическим результатом революционной мысли. Бердяев не противопоставляет добрую революцию, как это делают, скажем, какие–нибудь Черновы [195], злой большевистской революции. Он говорит; «Из революционного корня в конце концов произошло страшное яблоко раздора — ядовитый плод большевизма». А по плодам судя о древе, он, конечно, начисто отметает всю революционную мысль. Но этого мало, ведь революционная мысль является логическим продолжением каких–то предшествующих ей движений мысли. Доискиваясь корня революционной мысли, а стало быть и большевизма в глубине времен, ища там злого семени, которое все это породило, или, еще вернее, того коренного грехопадения, которое оборвало нормальный рост исторического древа, Бердяев находит его в Возрождении. Новейшая культурная эпоха характеризуется для Бердяева, как Ренессанс и его последствия, притом последствия, приводящие его в конце концов к такому признанию: «Мы вступаем в царство неведомого и неизжитого. Вступаем безрадостно и без светлых надежд. Вера в человека и его самобытные силы пошатнулась. Она двигала новой историей, но новейшая история расшатала эту веру». Итак, для .Бердяева получается замкнутый круг. Ренессанс явился поворотом к человеческой самонадеянности. Человеческая самонадеянность была главным фактором новой цивилизации. В конце концов эта цивилизация породила большевизм. А такое чудовище, как большевизм, напугало человечество. Оно готово теперь усомниться в самых надеждах на себя и, стало быть, искать спасения вне человека. «Образ человека замутнен! — патетически восклицает Бердяев. — Духовно чуткие люди готовы вернуться к средним векам».
Итак, Бердяев, прежде всего, в качестве объективного наблюдателя, правда не приводя ровно никаких доказательств, заявляет, что человечество готово сейчас вернуться к средним векам. Желание подсказывает здесь мнимофактическое умозаключение. Нигде решительно не видно ни малейшего стремления человечества к средневековью, вряд ли даже сколько–нибудь заметные фашистские группы согласны были бы сформулировать таким образом свой поворот. Дело идет о небольших оголтелых кружках и кружочках «кафе–литературного типа» и в первую очередь о гиперкультурном мусоре, выметенном из России метлой истории.