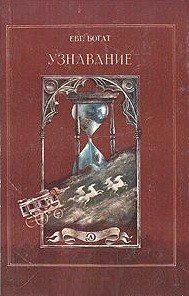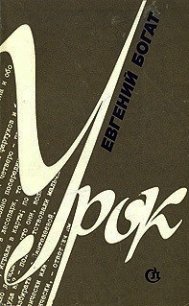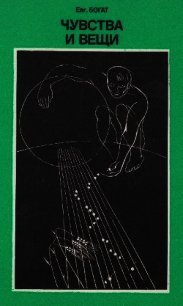Понимание - Богат Евгений Михайлович (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
…Он сидел передо мною в сумерках осеннего дня, когда читать или рассматривать лицо собеседника можно лишь с явным напряжением. Узкоплечий и сутуловатый, с коротко остриженной головой, с замершими на коленях ладонями, сидел с той потаенностыо застенчивого человека, которая особенно сильна у людей, решившихся на непривычную откровенность.
— Мне двадцать пять лет, говорят, что у меня «золотые руки»: я все умею делать. Говорят, что я мог бы зарабатывать колоссальные деньги. Но я их не зарабатываю, хотя не ленив. Все мое богатство — книги. Но и библиотеки большой у меня нет, потому что я живу в общежитии…
У меня нет никого из родных, мое детство — детдом и интернат. Но нет! — я совсем не типичный детдомовец. Не типичный в смысле жизнестойкости. Наверное, не в каждой семье ребенок получает столько тепла, понимания, сколько получал я (или мы) в детдоме. Я рос в детдоме в то время, когда был «открыт» Корчак. Мои воспитатели обожали его и все делали «по Корчаку». И насколько мне известно, из стен нашего детдома вышло немало душевно сильных людей. Я «не получился» не из-за Корча-ка, нет… Когда я сегодня анализирую мое воспитание, то вижу его основной порок не в том, что было чересчур много доброты, а в том, что было чересчур много оптимизма. Была бездумная и безрассудная вера в неминуемое, в фатально неизбежное торжество доброты, — даже шире: добра — в любой ситуации. И доброта хорошее качество, и оптимизм хорошая вещь, но вот в сочетании они могут родить что-то страшно незащищенное… вроде меня.
Я — он опять улыбнулся застенчиво, робко — подавал большие надежды. Неплохо учился, хорошо рисовал, у меня был красивый почерк, который восхищал моих учителей. И товарищи меня уважали, даже любили — за недетскую серьезность, справедливость, строгость. Но товарищей, честно говоря, было у меня мало. Я любил одиночество.
Я старался держаться в тени, хотя во многих случаях я без особых усилий мог бы быть лидером, вожаком. Даже физически я был сильным и часто в спортзале вызывал аплодисменты. Но и тут я не любил быть первым, быть на виду у всех.
С девочками я чувствовал себя лучше. И им тоже правилось, когда я участвовал в их играх. С девочками мне было хорошо. До первого удара, который нанесла одна из них.
Однажды, сидя с девочкой на уроке за одной партой, я со скуки стал вырезать перочинным ножиком собственное имя. Она это увидела и попросила, чтобы я вырезал рядом и ее имя. Налюбовавшись моей законченной работой, она тут же подняла руку и во всеуслышание, искоса поглядывая на мою бывшую соседку по парте, заявила, что я, мол, не слушаю урок, а занимаюсь порчей государственного имущества, то есть парты.
Сколько я себя помню, я любил книги, жил книгами. Любил жить в книгах. И будущая жизнь рисовалась мне чисто книжно. А в большинстве книг, вам это известно, наверное, лучше, чем мне, торжествует добро. От книг исходил тот же оптимизм, что и от моих воспитателей, но более возвышенный, облагороженный красивыми образами и красивыми отношениями и поэтому, наверное, более опасный…
Я вырос в убеждении, что я, моя персона, мой внутренний мир, моя судьба интересны всем, как были они интересны моим воспитателям и как мне самому интересны личности героев моих любимых книг. И вот когда я вышел в самостоятельную жизнь, я был потрясен и ошеломлен. Мне было шестнадцать лет, и я долгое время ничего не мог понять…
Я, как ребенок, не понимал, почему моя судьба, мой мир далеко не всем интересны. Меня, как малое дитя, удивляло равнодушие и совершенно потрясало, что меня, улыбаясь, могут обмануть. Я, конечно, и раньше читал и слышал о том, что существуют нечестность и несправедливость, но лично меня эти вещи не касались. Они жили отвлеченно, умозрительно в мире, где тотально торжествует добро. А сейчас — коснулись, и я ужаснулся.
Я невзлюбил книги, я начал их винить в том, что оказался беззащитным перед подлинной жизнью, я начал думать, что если бы тянулся не к ним, а к людям, то чувствовал бы себя увереннее…
Теперь я жил в общежитии. Поскольку особым комфортом я никогда не был избалован, то и общежитие воспринимал как нечто само собой разумеющееся, пока не совершил одного безрадостного открытия. Я, конечно же, с первых же дней заметил, что наряду с молодыми и совсем юными, вроде меня, на одних этажах и даже в одних комнатах с нами живут люди менее молодые: тридцати — тридцати пяти лет и даже совсем немолодые, сорокапятилетние. Ну, живут, думал я, и живут, что в этом особенного, работают, как и я, на большом заводе, вечером возвращаются в большое общежитие… А потом подумал: а почему, собственно, сорокапятилетний человек возвращается в общежитие, а не домой? У меня лично никогда не было дома, но это, наверное, для сироты естественно. У меня нет и не было дома, но я мальчик, подросток, юноша… А они — сорокапятилетние… И тут я понял, что они — неудачники. Это те, кому не удалась жизнь. Я, конечно, сознавал, что общежитие не модель мира, и все же не мог не думать о том, что жизнь полна неудачников. И меня вдруг ужаснула перспектива самому застрять в общежитии до сорока пяти лет. Я подумал: вот когда-нибудь поселится тут юноша моего возраста и увидит меня, уже сорокапятилетнего, и подумает: неудачник!
Мне захотелось собственного дома. И именно в это время началась моя первая и, должно быть, последняя в жизни любовь. Познакомился я с нею заочно: написал письмо. По радио вечером в воскресенье — я лежал у себя в комнате, читать не хотелось, потому что, повторяю, книги я разлюбил, — по радио передавали концерт по заявкам. Она попросила, чтобы исполнили арию певца за сценой из оперы Аренского «Рафаэль». Я эту музыку любил до обожания еще с детдомовских времен. «Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно…» Лилась томительно музыка, и я воображал ее. Радиодиктор назвал имя, фамилию, возраст — 16 лет, сообщил, что она отличница. Поэтому, догадывался я, и удостоили ее высокой чести исполнить по радио, на всю страну, ее любимую арию.
Мне было тогда около восемнадцати, я написал письмо, я написал ей на радио. Ей переслали, она мне ответила. Не видя ее, я ее полюбил. Она была первым человеком, который мне написал. И она была первым человеком, которому писал я. Я понял, что письмо — величайшее из чудес мира. Она писала умные письма, она сочиняла стихи, она отлично училась. К моему удивлению, жизнь ее оказалась неблагополучной: больная мать, много детей, отец пьяница. Я жалел ее, она жалела меня. Мое чувство окрепло, когда мы обменялись фотографиями. А окончательно — когда я поехал к ней туда, в маленький город Львовской области. Оказалось, она по всем статьям мне подходит, и я опять удивился тому, что мы сумели не потеряться, найтись в густых человеческих дебрях.
Ей было, повторяю, шестнадцать, мне — около восемнадцати. Через несколько дней по возвращении я получил от нее письмо, полное любви. Она первая написала мне такое письмо. Я ответил ей тем же, ставя себя намного ниже ее. Она казалась мне тогда недосягаемо высокой. Я жил полной, радостной жизнью, потому что вакуум был заполнен…
Наверное, я из тех натур, которые не могут существовать без идеалов или хотя бы без идеала. Это были лучшие дни моей жизни. Я шел на работу и возвращался в общежитие, напевая арию певца из оперы Аренского «Рафаэль». Мы переписывались, «почтовый роман» заполнял всю мою жизнь.
Потом почти незаметно (я обнаружил первые тревожные симптомы, лишь перечитывая ее письма) начало что-то меняться в ней, в наших отношениях… Появились жалостливые строки о том, что девушки вокруг теперь красиво, модно одеваются, а ей не во что… Она писала, что девушкам вокруг дарят подарки, а она ни одного подарка в жизни не получила. Я стал отвечать ей нравоучительно, доказывая, что человек должен жить высшими радостями и ценностями. Я написал, что она лучше, совершеннее всех окружающих ее и поэтому не она им должна завидовать, а они должны завидовать ей, ненарядно одетой и не получающей подарков. Я писал ей все нравоучительнее и чувствовал с досадой, что это все меньше ей нравится. В конце концов в одном из ее писем меня весьма больно задели строки о том, что я тогда, будучи в ее городе, не подарил ей ни одной шоколадной конфеты. Эти несчастные шоколадные конфеты переполнили чашу моего терпения. Я написал ей суровое письмо, и оно завершило наш «почтовый роман». Она не отвечала. Я потом писал ей несколько раз, но ответов не получал.