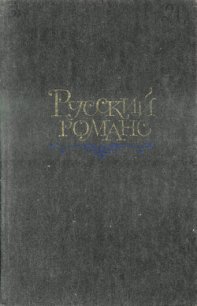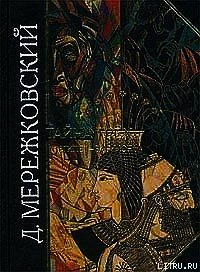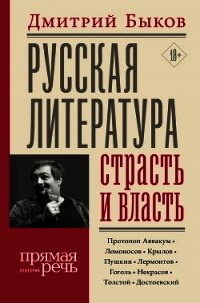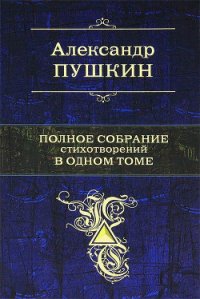Пушкин - Мережковский Дмитрий Сергеевич (читать книги онлайн .txt) 📗
В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отречения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное. В наступающих сумерках, когда лучшими людьми века овладевает ужас перед будущим и смертельная скорбь, Пушкин один преодолевает дисгармонию Байрона, достигает самообладания, вдохновения без восторга и веселия в мудрости – этого последнего дара богов.
Вот мудрость Пушкина. Это – не аскетическое самоистязание, жажда мученичества, во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это – заздравная песня Вакху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей – красота. Русская литература, которая и в действительности вытекает из Пушкина и сознательно считает его своим родоначальником, изменила главному его завету: «да здравствует солнце, да скроется тьма!» Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти. Шестидесяти лет не прошло со дня кончины Пушкина – и все изменилось. Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя; самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодец; бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту, бегство Льва Толстого от ужаса смерти в жалость – только ряд ступеней, по которым мы сходили все ниже и ниже, в «страну тени смертной».
Таким он был и в жизни: простой, веселый, менее всего походивший на сурового проповедника или философа, – этот беспечный арзамасский «Сверчок», «Искра», – маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуту вдохновенья. Таким описывает его Смирнова. Тихие беседы Пушкин любит обрывать смехом, неожиданною шуткою, эпиграммою. Между двумя разговорами об истории, религии, философии, все члены маленького избранного общества веселятся, устраивают импровизованный маскарад, бегают, шалят, смеются, как дети. И самый резвый из них, зачинщик самых веселых школьнических шалостей – Пушкин. Он всех заражает смехом. «В тот вечер, – записывает однажды Смирнова, – Сверчок (т. е. Пушкин) так смеялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что когда будет умирать – для храбрости пошлет за ним».
В нем нет и следа литературного педантизма и тщеславия, которым страдают иногда и очень сильные таланты. Пушкин всегда недоволен своими произведениями: он признается Смирновой, что всего прекраснее ему кажутся те стихи, которые случается видеть во сне и которых невозможно запомнить. Он работает над формой, гранит ее, как драгоценный камень. Но, когда стихотворение кончено, не придает ему особенной важности, мало заботится о том, что скажут оценщики. Искусство для него – вечная игра. Он лелеет неуловимые звуки – неписанные строки. Поверхностным людям, привыкшим воображать себе гения в торжественном ореоле, такое отношение к искусству кажется легкомысленным. Но людей, знающих ум и сердце Пушкина, эта детская простота очаровывает. «Пушкин прочитал нам стихи, – говорит Смирнова, – которые я и передам государю, когда они будут переписаны, а пока он кругом нарисовал чертиков и карикатурные портреты. Я никого не встречала, кто бы придавал себе меньшее значение. Он напишет образцовое произведение, а на полях нарисует чертенка и собственную карикатуру в виде негра в память предка Ганнибала».
Этою веселостью проникнуты и сказки, подслушанные поэтом у старой няни Арины, и письма к жене, и эпиграммы, и послания к друзьям, и Евгений Онегин. Некоторые критики считали величайший из русских романов подражанием Байронову Дон Жуану. Несмотря на внешнее сходство формы, я не знаю произведений более отличных друг от друга по духу. Веселая мудрость Пушкина не имеет ничего общего с едкою иронией Байрона. Веселость Пушкина – лучезарная, играющая, как пена волн, из которых вышла Афродита. В сравнении с ним, все другие поэты кажутся тяжкими и мрачными – он один, светлый и легкий, почти не касаясь земли, скользит по ней, как эллинский бог…
Пушкин не закрывает глаз на уродство и пошлость обыкновенной жизни. Описав смерть Ленского, поэт задумывается над участью безвременно погибшего романтика, которого,
Но Пушкин никогда не кончает лиризмом; тотчас же показывает он другую сторону жизни:
Этот ужас обыкновенной жизни русский поэт преодолевает не брезгливым, холодным презрением, подобно Гёте, не желчной иронией, подобно Байрону, – а все тою же светлою мудростью, вдохновением без восторга, непобедимым веселием:
Вот как выражается то же настроение в переводе на будничную прозу: «Опять хандришь, – пишет он Плетневу из Царского Села в 1831 году. – Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчики будут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам-то и любо. Вздор, душа моя… Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».