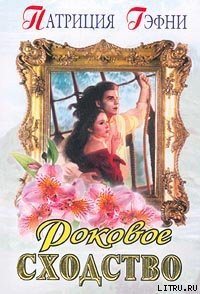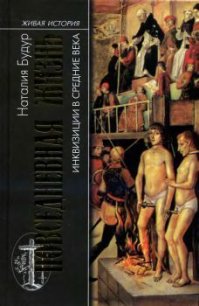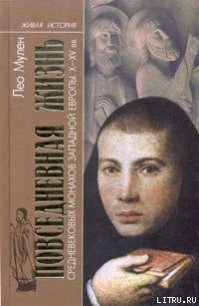Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена - Бобровникова Татьяна Андреевна (книги без сокращений txt) 📗
Время было над ними бессильно. Напротив. Речи их, как старинные вина, с годами становились все драгоценнее. Слишком утонченное и развращенное поколение Цицерона с презрением называло речи своих предков грубыми и неотделанными. Неудивительно. XVIII век, век Просвещения, называл грубым самого Шекспира и противопоставлял ему светского и гладкого Расина, а Еврипид, если верить Аристофану, называл неотесанным Эсхила. Однако вскоре римляне устали от блестящих и изысканных риторических фигур и пресытились ими. Они стали понимать, что под великолепной оболочкой подчас скрывается полная пустота. И их потянуло к благородной простоте, силе и глубине древних ораторов. Авл Геллий рассказывает, что его современники предпочитали страстные речи Гая Гракха творениям самого Цицерона (Gell., X, 3,1). Тогда-то речи Сципиона снова вошли в моду.
Цицерон говорит, что лучшими ораторами своего времени считались Сципион и Лелий. «Однако, — прибавляет он, — ораторская слава ярче была у Лелия» (Brut., 82–83). Это кажется вполне естественным. Лелий был фактически профессионал — он постоянно выступал в судах в качестве защитника (Cic. De re publ., Ill, 42). Сципион же так и не преодолел своего отвращения к судам, поэтому писал почти исключительно одни политические речи. Вот почему Цицерон приступил к изучению их произведений с уже предвзятым мнением: он заранее знал, что речи Сципиона — не более, как опусы дилетанта, в лице же Лелия он столкнется с настоящим мастером. Каково же было его изумление, когда он мало-помалу убедился, что речи Сципиона ничуть не хуже речей его друга. Более того — они лучше.
Самой прекрасной речью Лелия была, несомненно, речь о коллегиях, произнесенная им в 145 году до н. э. Дело было в следующем. Некий Гай Красс [74], принадлежавший к разряду дерзких и мятежных трибунов-популяров, предложил законопроект, по которому все члены жреческих коллегий отныне должны были выбираться на народном собрании. Предлагая свой закон, трибун демонстративно повернулся спиной к сенату, лицом к простому народу — жест, двадцать два года спустя повторенный вождем демократии Гаем Гракхом (Cic. De amic., 96).
Лелия, конечно, обидело такое нарочитое презрение к отцам сенаторам. Но дело было не в этом. Он прекрасно понял, что закон должен был унизить религию и поставить ее на службу политикам. Вот это-то и возмутило его до глубины души. Лелий был авгуром. Жрецы, входившие в эту почтенную, освященную веками коллегию, умели на основании каких-то тайных, идущих еще от этрусков знаний, определять по небесным знамениям и полету птиц, угодно или нет божеству задуманное предприятие. Подобно многим иереям, он любил свое служение, причем любил именно то, что подчас высокомерно презирают чересчур просвещенные верующие — он любил ритуал. Ему нравились пурпур торжественных одеяний, изогнутые жезлы гадателей, величественные слова молитв и маленькие чашечки для священнодействий, которые он описал так искренне и трогательно. И всю свою любовь он вложил в речь, произнесенную им перед народом [75]. Она превратилась в величественный гимн римской религии. Народ не устоял против его красноречия, и популярный закон популярного политика был отвергнут.
Цицерон обожал речь о коллегиях. «Ничего не может быть сладостнее этой речи, — говорит он, — и о религии невозможно сказать ничего возвышеннее» (Brut., 83). Он даже писал, что именно Лелий сделал его религиозным, и он никогда не мог без слез читать эту «прелестную, поистине золотую» речь (De nat. deor., Ill, 5; 43; De re publ., VI, 2).
И все-таки тот же Цицерон сознается, что даже эта «золотая речь» «не лучше любой из многочисленных речей Сципиона» (Brut., 83, курсив мой. — Т. Б.). Удивительное высказывание! Значит, любая речь Сципиона с легкостью выдержит сравнение с лучшей речью его друга. А раз так, несомненно, Сципиона следует признать гораздо более одаренным оратором. Но в таком случае откуда же возникла та странная молва, которая ввела в заблуждение Цицерона? Сам оратор пришел к любопытнейшему выводу. Оказывается, источником этих слухов был кружок Сципиона. Здесь сложилось мнение, что подобно тому как «никто не сравнится с Публием Африканским в военной славе (хотя мы знаем, что и Лелий отличился в войне с Вириатом), так по таланту, красноречию, даже уму» первое место принадлежит Лелию. Хотя, продолжает Цицерон, «и тот, и другой достойны были первого места» (Brut., 84).
Однако совершенно ясно, что как бы ни отличился Лелий в войне с Вириатом, сравнивать его со Сципионом было просто смешно. Так что у Лелия были все основания благоговеть перед полководческим гением друга (Cic. De re publ., 1,18). А вот что касается образования, ума и талантов, тут все не так просто. Мы знаем, что Сципион и Лелий получили одинаковое образование и всю жизнь все постигали и изучали вместе. Об уме Сципиона скажу одно — он дружил с Полибием и философом Панетием, и эти умнейшие греки гордились знакомством с ним, дорожили его беседой, записывали его слова, а к Лелию были, кажется, сугубо равнодушны и смотрели на него только как на друга Сципиона. Что до талантов, то Цицерон убедился, что даже в области красноречия они были более ярки у Публия.
Можно заметить, что чем дальше от времени Сципиона, чем больше слабеет власть его внушения, тем более и более забывается Лелий, а слава самого Публия сияет все ярче. Геллий не упоминает даже имени Лелия, а Сципиона называет лучшим оратором своего времени. Видимо, ко II веку н. э. Лелия вовсе забыли. Очевидно, именно Сципион и создал ему такую необыкновенную репутацию. Он очень боялся, что блеск его собственной славы совершенно затмит друга. И вот он начал внушать всем мысль, что Лелий много выше и талантливее его во всех мирных искусствах. И в этом нужно видеть ту особую деликатность, за которую все так любили Публия.
Лелий и Сципион были друзьями. У них были общие мысли, они читали одни и те же книги, они все обсуждали вместе. Вот почему в их речах невольно сквозит что-то общее. Но было и резкое различие. Речь Лелия была изящна и необычайно приятна. В каждом слове сквозил ясный ум, и во всем разлита была необычайная, ему одному свойственная нежность, которую Цицерон считает главной отличительной особенностью его стиля (Cic. De or., Ill, 28; De re publ., Ill, 42; Brut., 89). Но у него не было одного — силы. Прекрасно характеризует его следующая история. У Сципиона и Лелия был юный друг Рутилий, с которым читатель впоследствии ближе познакомится. Вот этот-то Рутилий уже стариком рассказывал Цицерону следующее.
«Сенат поручил консулам… расследовать очень серьезное и неприятное дело… Произошло убийство в Сильском лесу, жертвой которого оказались известные люди. Обвинение было предъявлено рабам, а отчасти и свободным того сообщества, которое арендовало дегтярню у цензоров… На суде арендаторов защищал Лелий, по своему обыкновению, очень тщательно и изящно. Однако, выслушав дело, консулы распорядились продолжать следствие. Через несколько дней Лелий выступил вновь, говорил еще лучше, еще старательнее, но вновь консулы таким же образом отложили дело. Когда после этого подопечные Лелия провожали его домой, выражая ему благодарность и умоляя не отказываться от усилий в их защиту, Лелий сказал им следующее: то, что он сделал, он сделал из уважения к ним со всем усердием и старанием; но, по его мнению, Сервий Гальба мог бы защитить их дело с большей силой и убедительностью, так как он умеет говорить живее и горячее. И тогда арендаторы, по совету Лелия, передали дело Гальбе. Тот, поскольку должен был наследовать такому человеку, как Лелий, принял дело с опаской и не без колебаний… У него оставался только один день, который он целиком посвятил изучению дела и составлению речи. А когда настал день суда и Рутилий по просьбе подзащитных пришел утром к Гальбе домой, чтобы напомнить ему о деле и проводить в суд к назначенному времени, он увидел, что Гальба, удалив всех, уединился в отдаленной комнате вместе со своими писцами… и работал над речью до тех пор, пока ему не сообщили, что консулы уже в суде и пора идти. Тогда он вышел в зал с таким пылающим лицом и сверкающими глазами, что казалось, будто он только что вел дело, а не готовился к нему. Рутилий добавлял также, что не случайно, по его мнению, вышедшие вслед за Гальбой писцы имели вконец измученный вид: отсюда легко было представить, насколько Гальба был горяч и страстен не только тогда, когда выступал с речью, но и когда обдумывал ее. Что тут еще сказать? В обстановке напряженного ожидания, перед многочисленными слушателями, в присутствии самого Лелия Гальба произнес свою речь с такой силой и внушительностью, что каждый раздел заканчивался под шум рукоплесканий. Таким образом, после многократных и трогательных призывов к милосердию, арендаторы в тот же день были оправданы при всеобщем одобрении» (Cic. Brut., 85–88).
74
Хотя он и происходил из той же фамилии, что и Красс Оратор, о котором недавно шла речь, но не имел к этому последнему Никакого отношения.
75
Речь эта не сохранилась, за исключением крошечных фрагментов. Мы знаем о ней в основном по восторженным отзывам и пересказу Цицерона