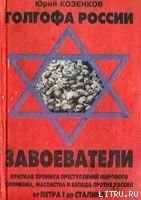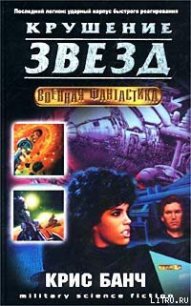«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (е книги TXT) 📗
Но и в самой победе, вопреки Данилевскому, он видит не пафос самобытности русского народа, а великое византийское влияние, воспитавшее Россию: «Церковное же чувство и покорность властям (византийская выправка) спасли нас и в 12–м году. Известно, что многие крестьяне наши (конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием) обрели в себе мало чисто национального чувства в первую минуту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, брали от французов деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но как только увидали люди, что французы обдирают иконы и ставят в наших храмах лошадей, так народ ожесточился, и все приняло иной оборот» [174].
Вообще, и его, и В. С. Соловьева, Толстой раздражал как истинный враг христианства и человеческого бытия. Как и Соловьев в «Трех разговорах», он провидел в нем существо, пролагающее пути антихристу. В статье, где он говорит о приходе антихриста, он поминает и Толстого: «И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого. <…> И он не только жив и свободен, но и мы сами все, враги его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая ему!..» [175]
При полном неприятии Льва Толстого Леонтьев чувствовал интеллектуально — духовную близость к В. Соловьеву, считая его абсолютным гением, испытывая восторг от его текстов. Как замечал в своей фундаментальной книге о русском богословии Флоровский: «Для Леонтьева очень характерно, что с “Теократией” Влад. Соловьева он готов был и хотел бы согласиться, очень хотел бы себя открыто объявить его учеником, и к католичеству его влекло» [176]. В письме А. Александрову (от 5 февраля 1888 г.), за три года до смерти, уже после своей статьи «Владимир Соловьев против Данилевского» он советовал: «Познакомьтесь с Владимиром Соловьевым и <. > говорите с ним откровенно о Ваших сомнениях, о Толстом и т. д. Это человек благороднейший, в области мышления гениальнее Толстого, отличаясь от него, как небо от земли» [177]. Более того, сам Леонтьев полагал, что и Соловьев понимает его. Он делился с В. Розановым (27 мая 1891 г): «Соловьев лично очень дружит со мной и любит меня. Он к тому же очень сочувствует тому, что я религию ставлю выше национализма» [178].
Книгу Данилевского называли Библией, а иногда Кораном (В. Соловьев) славянофильства. Как же позиционировал себя Леонтьев по отношению к славянофильским идеям? Назвать его правоверным славянофилом невозможно. Даже С. Трубецкой, отмечая его близость к славянофилам, дал классическое определение: «Леонтьев — разочарованный славянофил, пессимист славянофильства» [179]. Еще более категоричен друг его последних лет Василий Розанов: По существу, он, как не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы» [180].
Но это и сохранило его оригинальность. Самые плохие книги пишутся для поклонников. Так что в каком‑то смысле хорошо, что слава пришла после смерти. Но посмертная слава не отменяет прижизненной малоизвестности. А погруженный в неизвестность мыслитель не является общественной силой. В 1905 г. были написаны слова: «Был у нас в публицистике еще блестящий ум, не признанный при жизни, почти забытый по смерти, а между тем обладавший несравненно более философской складкой, нежели другие по преимуществу практические умы, касавшиеся монархической идеи. Я говорю о Константине Николаевиче Леонтьеве. <. > Борясь против славянофильства, Леонтьев доказывал неопределенность и малоподвижность славянского гения и настаивал на том, что Россия всем своим развитием обязана не славянству, а византинизму, который усвоила и несколько дополнила» [181].
Вспомним негативное отношение славянофилов к Петру. Оно, разумеется, имело градации, в разные годы было неоднозначным, но сошлюсь на слова И. С. Аксакова, самого влиятельного славянофильского публициста тех лет: «Петр презрел все законы органического развития» [182]. У Леонтьева видим прямо противоположное понимание Преобразователя. Накануне революций (всего за 50 лет) он увидел идущую гибель империи и понял: ее спасет не материальная сила, а идея. Леонтьев весьма ценил Петровскую реформу, видя в ней «нашу эпоху Возрождения». От нее начался расцвет России. Однако, на его взгляд, в XIX веке Петровская идея европеизма (западного европеизма) терпит крах. Прежде всего потому, что наступил кризис Европы, которая все дальше уходит от средневекового и возрожденческого христианства и в которой очевидно вступление на мировую арену истории того человека, что потом будет назван человеком «массового общества». И Леонтьеву показалось, что, может, византизм спасет Россию. Он писал: «Начинается разложение Петровской России по последним европейским образцам. <…> Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Московская Русь вышла из Цареграда» [183].
Его любовь к Византии — это любовь к европейской прививке, более древней, нежели прививка Петровская. Стоит сослаться на наблюдение С. Булгакова: «Леонтьев весь в Европе и об Европе: для славянского мира он знает лишь слова разъедающей критики и презрения, и даже Россия как таковая для него ценна лишь постольку, поскольку хранит и содержит религиозно — культурное наследие византизма, да есть еще оплот спасительной реакции, сама же она обречена оставаться в состоянии ученичества и пассивного усвоения. А византизм есть, конечно, лишь более раннее лицо Европы же» [184]. Эти слова есть просто краткое резюме идей Леонтьева, разбросанных в разных его текстах. Византизм — это сохранившаяся в эпоху всеобщего распада подлинная Римская империя, поэтому ее влияние было продуктивно и для Западной, и для Восточной Европы: «Обломки византизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные почвы. На Западе все свое, романо — германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой сложного цветения Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах, эпоха многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей. <…>. Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее.
Нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в XVII веке, во время Петра I или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца» [185].
От слов Леонтьева об эпохе Петра как нашем Возрождении легче перейти к тому неожиданно позитивному, что обыденный рассудок обычно осуждает, но что виделось Леонтьеву благом: «До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти умом и властью. <…> Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное торжество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический, в смысле вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. <. > С ее времени дворянство стало несколько независимее от государства, но по — прежнему оно преобладало и господствовало над другими классами нации. Оно еще более выделилось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и т. п.» [186].