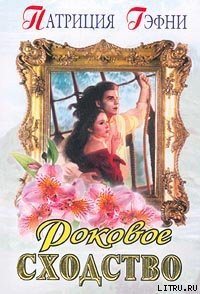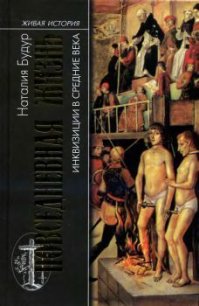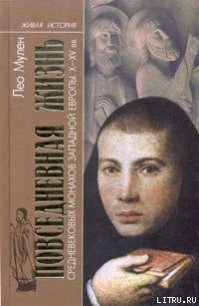Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена - Бобровникова Татьяна Андреевна (книги без сокращений txt) 📗
Теперь римляне жили в настоящей крепости. Набеги карфагенян их больше не страшили. «Наш лагерь был так укреплен, что можно было бы увести часть войска», — рассказывал впоследствии Сципион народу (ORF-2, Scipio Minor, 12). А главное, Сципион локализовал войну в одном городе и блокировал его, совершенно отрезав от суши. Ни воины, ни оружие, ни продовольствие не могли проникнуть через укрепление Сципиона. Но оставалось еще море. Оно связывало Карфаген с внешним миром, и, хотя корабли римлян стояли в гавани, мимо них постоянно проскакивали неприятельские суда. Сципион решил положить этому конец. Он начал возводить каменную дамбу, которая должна была закрыть вход в порт. Это было исполинское сооружение, у основания достигавшее 30 метров. Карфагеняне сначала только издевались над римлянами, которые трудились над этой циклопической постройкой. Но римляне, с тех пор как приехал Сципион, словно испытывали прилив новых сил. Вместо постоянного стыда и тоски, которые они ощущали при предыдущих консулах, их охватило какое-то восторженное возбуждение. Все их действия казались исполненными глубокого смысла, теперь они не сомневались в победе. И вот днем и ночью, не останавливаясь, они носили камни. Напрасно пунийцы бросали в них копья и дротики — страшная дамба поднималась все выше.
Видя, что ничто не может остановить римлян, пунийцы ухватились за новый план. Целые дни римляне слышали непрерывный стук, несущийся из гавани. Они ломали себе голову над тем, что это может значить. А карфагеняне пробили новое устье в сторону открытого моря и с торжеством вывели свой флот. Римляне были убеждены, что у неприятеля нет кораблей, и теперь просто глазам своим не верили. Если бы пунийцы тут же устремились на врагов, то застали бы их врасплох: у римлян ничего еще не было готово для морского боя. Но боги, по словам Аппиана, уже твердо решили погубить Карфаген. Поэтому пунийцы только гордо проехали мимо римлян и вернулись в гавань. И они потеряли время. Сципион явился на место действия и успел, как всегда, очень быстро приготовиться. Два дня длилась морская битва. Римлянам было нелегко: они не привыкли сражаться на море, а имели дело с искуснейшими флотоводцами мира. Но все-таки они победили, главным образом благодаря грекам, друзьям Сципиона. Греки предложили свою тактику боя. Римляне быстро ее переняли, и карфагеняне были разбиты (Арр. Lib., 120–124). Гавань была заперта.
VII
Газдрубал, всесильный диктатор Карфагена, два года наводил страх на римскую армию. Но вот приехал Сципион, и римляне с карфагенянами поменялись местами. Первое жестокое поражение, нанесенное ему Публием, ясно показало Газдрубалу, что время побед окончилось. Когда же он понял, что заперт в Карфагене, его охватила неистовая ярость. Проявил он ее следующим образом:
«Газдрубал вывел римских пленных на стену, откуда римлянам должно было быть видно то, что произойдет, и стал кривыми железными инструментами у одних вырывать глаза, языки, тянуть жилы и отрезать половые органы, у других подсекал подошвы, отрубал пальцы или сдирал кожу со всего тела и всех, еще живых, сбрасывал со стены или со скал» (Арр. Lib., 118).
Можно себе представить гнев и отчаяние римлян, которые прекрасно видели, как истязают их друзей, но бессильны были помочь. Однако в отчаяние пришли не только римляне, но многие члены карфагенского совета. И не потому, что они были очень чувствительными людьми. Они прекрасно поняли, что теперь мосты сожжены. Еще вчера они могли надеяться смягчить и разжалобить римлян и их полководца, который слыл у них очень добрым человеком. Сегодня это было уже невозможно.
Но сам Газдрубал, по-видимому, был другого мнения. Вскоре после своего подвига он дал знать гулуссе, который снова был в римском лагере, что желал бы с ним говорить. Их свидание Полибий описывает столь ярко, столь красочно и живо, что я совершенно уверена, что он собственными глазами видел все с четырехугольной башни Сципиона.
«Газдрубал явился для переговоров к нумидийскому царю гулуссе во всеоружии [58], в пурпурном плаще, застегнутом на груди, в сопровождении десяти оруженосцев; потом вышел вперед… и кивком головы подозвал к себе царя, хотя подходить-то следовало ему. Во всяком случае, гулусса подошел к нему один, в простой одежде по обычаю нумидийцев и… спросил, кого он так боится, что пришел сюда в полном вооружении. Когда тот ответил, что боится римлян, Гулусса продолжал:
— Оно и видно, иначе бы ты без всякой нужды не дал запереть себя в городе. Что же тебе угодно и о чем твоя просьба?
— Я прошу тебя, — отвечал Газдрубал, — принять на себя посольство к римскому военачальнику и от нашего имени дать обещание выполнить всякое его требование. Только пощадите наш злосчастный город.
— Друг любезнейший, — был ответ гулуссы, — просьба твоя была бы прилична ребенку. Каким образом ты желаешь получить милость, которой вы через послов не могли добиться еще до начала военных действий…
Газдрубал возразил, что гулусса сильно заблуждается, что он возлагает большие надежды на иноземных союзников… что сами карфагеняне не теряют веры в собственные силы, а главное, рассчитывают на богов и их содействие».
Газдрубал добавил, что карфагеняне скорее перережут друг друга, чем пожертвуют своим городом. На этом они расстались, и гулусса не очень охотно отправился к римскому военачальнику. Трудно было найти менее удачный момент для переговоров. В глазах Сципиона до сих пор стояли виденные недавно пытки. Его пробирала дрожь отвращения при одном имени Газдрубала. И все же он заставил себя терпеливо выслушать нумидийца, пока тот не дошел до богов. Тут «Публий, засмеявшись, сказал:
— Ты, верно, заготовлял эту просьбу, когда совершил такое ужасное нечестие над нашими пленными, и теперь неужели ты возлагаешь надежды на богов, когда преступил законы божеские и человеческие?»
Гулусса, однако, стал настойчиво убеждать Публия быть уступчивее: ведь приближаются консульские выборы, Сципиону могут прислать преемника, который, не обнажая меча, воспользуется его трудами, а кроме того, ведь следует помнить о непостоянстве судьбы. Публий задумался. Его вряд ли могла испугать угроза приезда нового консула — хотя бы потому, что теперь, после всего, что он сделал, ни народ, ни трибуны не допустили бы этого. Больше подействовало на него, несомненно, упоминание о судьбе: эта тема всегда его волновала. Но главным образом, вероятно, он боялся своей резкостью обидеть сына Масиниссы. Отвергнуть посредничество нумидийского царя казалось ему некрасивым.
Но о принятии предложения Газдрубала не могло быть и речи. Сципион прекрасно знал, что сенат — да и весь римский народ — считали теперь, что необходимо стереть ненавистный город с лица земли, ибо Рим и Карфаген не могут вместе жить под солнцем. Поэтому он велел передать Газдрубалу, что выпустит из города его самого, его семью и еще десять семей по его выбору и позволит взять 10 талантов денег. Такой ответ и понес Гулусса Газдрубалу. «Тот опять подходил к нему медленной поступью, в пышной багрянице и в полном вооружении, так что был гораздо торжественнее театральных тиранов. От природы человек плотного сложения, Газдрубал имел теперь огромный живот; цвет лица его был неестественно красный, так что, судя по виду, он вел жизнь не правителя государства, к тому же удрученного неописуемыми бедами, но откормленного быка, помещенного где-нибудь на рынке. Как бы то ни было, Газдрубал подошел к царю и, выслушав предложения римского военачальника, несколько раз ударил себя по бедру, потом, призвавши богов и судьбу в свидетели, объявил, что никогда не наступит тот день, когда бы Газдрубал смотрел на солнечный свет и вместе на пламя, пожирающее родной город, что для людей благомыслящих родной город в пламени — почетная могила.
Доверяя речам, можно было удивляться мужеству Газдрубала и его душевной доблести; но при виде поступков нельзя было не поражаться его подлостью и трусостью. Так, во-первых, когда прочие граждане умирали от голода, он устраивал для себя пиры с дорогостоящими лакомствами, и своею тучностью давал чувствовать сильнее общее бедствие… Потом издевательствами над одними, истязаниями и казнями других он держал народ в страхе и этими средствами властвовал над злосчастной родиной, как едва ли позволил бы себе тиран в государстве благоденствующем» (Polyb., XXXVIII, 1–2).
58
Это было вопиющим нарушением всех международных обычаев, требовавших, чтобы на переговоры являлись безоружными.