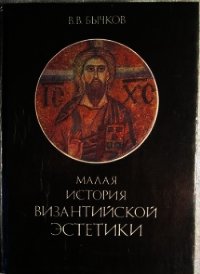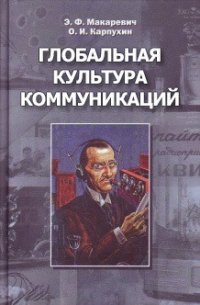Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. - Коллектив авторов (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
В Средние века почти каждый серьезно-официальный церковный праздник имел свою народно-площадную сторону. Сущет ствовала и обширная смеховая и пародийная литература, связанная с собственно карнавалом, с «праздником дураков», с вольным «пасхальным смехом». Хотя обе стороны жизни (официальная монологически-серьезная и карнавально-площадная) были в Средние века узаконены, между ними существовали строго установленные временные границы. В эпоху Возрождения карнавальная стихия снесла эти временные барьеры и вторглась во многие области официальной жизни и мировоззрения. Смех оплодотворил, по Б., литературу Ренессанса и сам был оплодотворен ею. Карнавал овладел почти всеми жанрами большой литературы и существенно преобразовал их (наиболее значимые в этом отношении для Б. имена — Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес). Карнавальное мироощущение проникло, по Б., и в сами основы ренессансного мироощущения.
После Возрождения, оцениваемого Б. как вершина карнавализации, начался спуск. Народная карнавальная жизнь редуцируется в дальнейшем в придворно-праздничную культуру, уйдя с народной площади в замкнутые маскарадные пространства. Изменились в Новое время и функции самого смеха; область его ведения все более суживается, он утрачивает свой праздничный универсализм и возрождающую силу. На место амбивалентного сочетания осмеяния и ликования вступило однотонно критическое и прямо сатирическое обличение. Смеющийся отделился от осмеиваемого (и во внешне-социальном и во внутренне-психологическом смысле); всеобщий праздник распался на исполнителей и зрителей (а иногда и на жертвы). Амбивалентная средневековая непристойность выродилась в поверхностную эротическую фривольность; высокая площадная откровенность, связанная с «серьезной» верой в производительную силу земли и тела, стала пониматься узкосексуально, превратившись в «альковный реализм» подсматривания и подслушивания. В XVIII в. смех стал, по Б., презренным и низким занятием. Знающий только «горизонталь» и редуцированный до голой отрицательной насмешки, он лишается своей возрождающей и обновляющей силы и начинает окрашиваться в релятивистские тона, его вольная и веселая амбивалентность трансформируется в скептицизм и агностицизм. Но эта деградация самого карнавала уже не могла, по Б., противодействовать тому мощному карнавальному импульсу, который был получен литературой в эпоху Ренессанса.
Со 2-й пол. XVII в. уже не сам карнавал влияет на литературу, но ее ранее карнавализованные формы. Карнавализация становится почти чисто литературным явлением, а большинство жизненных карнавальных форм модифицировались в собственно художественные средства. Редуцированные формы карнавального смеха (юмор, ирония, сарказм) транспонировали во вместившие их в себя художественно-изобразительные системы его природную амбивалентность. Через ряд промежуточных этапов амбивалентная целостность карнавального мироощущения была, согласно Б., в преображенном виде восстановлена в литературе как особая эстетическая система — полифонический роман Достоевского (см.: Полифония). Хотя карнавальный смех и не звучит в полифонии Достоевского явно и в полную силу, тем не менее его отголоски слышны и в структуре художественных образов, и в сюжетных положениях, и в особенностях словесного стиля и др. Но главным преображенным выражением редуцированного смеха и амбивалентного карнавального мировосприятия Б. считает созданную Достоевским принципиально новую авторскую позицию, которая не дает абсолютизироваться в модусе непререкаемой серьезности ни одной точке зрения, ни одному полюсу жизни и мысли. В полифоническом романе однозначные идеи-позиции отдаются героям, а автор диалогически сводит их в «большом диалоге» романа, оставляя его открытым, не ставя завершающей точки. Такого рода художественные системы выражают, по Б., амбивалентность и незавершимость самой природы человека и его мысли. В целом Бахтинская теория карнавализации является не только инновационной гипотезой в области исторической поэтики, но и закодированной в эстетических категориях оригинальной философией истории.
Полифония — теория особого типа художественного мышления, получившего, согласно Б., отчетливое выражение в романах Достоевского. По своим основным параметрам полифония противостоит монологическому (или гомофоническому) мышлению. Становление полифонического романа — следствие транспонирования в литературу карнавальной традиции народной смеховой культуры (см.: Карнавализация), особой формы проявления общей установки романного жанра на социальное разноречие («многоголосие») языковой жизни (см.: Двуголосое слово) и обновленной рецепции хронотопических форм авантюрного романа (см.: Хронотоп). В противоположность монологическому роману, в котором характеры и типы героев даются как объективированные и завершенные образы, имеющие генетическое и причинное обоснование внутри единого «объективного» мира, изображаемого и оцениваемого единым же авторским сознанием, герои полифонического романа — это особым образом упорядоченное множество самостоятельных, незавершенных и неслиян-ных сознаний («голосов»). Согласно Б., объединение полифонических образов в романное целое осуществляется не посредством рассмотрения их в качестве закономерных и сплошь «объясненных» элементов изображаемого «объективного» мира, не через сюжетно-тематическое единство объемлющих их событий и не посредством поглощения их личностного многообразия монологическим сознанием автора, прочерчивающего между ними причинные или иные рациональные связи, а за счет установления между героями личностных («диалогических») отношений.
В отличие от монологического романа, где либо автор подавляет героя (общий случай), либо герой — автора (частный случай, имеющий место тогда, когда автор «не справляется» с внутренне убедительным для него героем, не может дистанцироваться от него и, следовательно, завершить его образ и потому подчиняется герою, делая тем самым уже его, а не свое сознание монологической оправой для всего романа), в полифоническом романе автор не завершает сознание героев и не сливается с главным из них, становясь «рупором» его идей, а вступает с ними в равноправные диалогические отношения. Отсюда вместо системной взаимозависимости между идеями, мыслями и положениями, которые все довлеют одному — авторскому или абстрактно-всеобщему — сознанию, в полифоническом романе взаимодействуют принципиально не сводимые в системное единство личностные позиции героев, их хронотопически самостоятельные точки зрения на мир, данные в разрезе объединяющего их каждый раз уникального события личностного общения. Предмет изображения в полифонии — незавершимый диалог.
Диалогический подход — фундаментальное требование полифонической эстетики, согласно которому герой — не вещь и не абстрактный смысл, а «ты», т. е. другое «чужое» сознание, которое, согласно общефилософской концепции Б., не может быть извне объективировано и завершено. С другой стороны, диалогический принцип предполагает, что каждое сознание не может быть и абсолютно отчужденным от других «я», не может быть абсолютно свободным даже в самооценке. То, что раскрывается в полифоническом романе, — это не внешний, завершенный и сплошь объясненный образ героя, но выражение его собственного самосознания, его «собственное слово» о себе и о мире, которое не может быть сказано никем другим, но которое вместе с тем зависит и от взаимоотношений героя с окружающими его другими «я» и потому в самых глубинных пластах смысла всегда ориентировано на чужую речь о себе самом. Мир охватывается полифоническим романом не в историческом или бытовом времени, а в как бы абсолютном времени-пространстве, где принцип причинности и генетический подход теряют свое значение. Не становление или развитие героев, предполагающие некий рационально объяснимый временной ряд, является предметом изображения в полифоническом романе, но сосуществование и взаимодействие героев в «большом времени» и «большом диалоге» культуры по «последним вопросам» бытия. Непротиворечивое осуществление такой диалогический подход получает лишь при понимании изображаемого мира как равноправного общения разных «я», включая «я» автора.