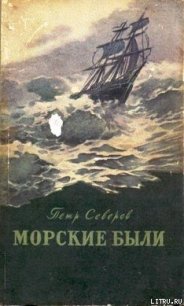Карта родины - Вайль Петр (онлайн книги бесплатно полные .TXT) 📗
В жизни Маленький Человек, разумеется, был всегда, представляя там подавляющее большинство и в силу своих размеров существуя практически незамеченно. На вопрос, как вышло, что грандиозные перемены были приняты с такой легкостью, ответа можно искать именно в человеческом масштабе: маленький — непременно мелкий. Он уже был той «подробностью», той «частностью», до которых «рассыпалась» Россия. К тому времени в русской словесности Маленького Человека не осталось. Гумилев лишь по инерции уходящего 31есГа находил «Одиссеев во мгле пароходных контор». Одиссей оказался, во-первых, рекламным агентом, а в-главных — совсем в другой стране. Советский же период русской литературы и вовсе не знал такого героя.
Внешне схожий персонаж возник у Зощенко, но его мелкость утрирована — ничего общего с достойной мизерабельностью станционного смотрителя и титулярного советника. Тем более не похожи на них ни святой нового канона Корчагин, ни байронический скиталец Мелехов, ни новобиблейские персонажи Бабеля, ни мифологические гиганты Платонова, ни чудо-богатыри советского классицизма. Ни патетические физики и лирики 60-х, ни правдоносцы деревенщиков. Ни сильные люди Солженицына, ни гибкие люди Войновича, ни стойкие люди Искандера. Ни безумцы и маргиналы катакомб во главе с алкашом и эстетом Веничкой. Были всякие, но маленьких — не было.
В российском XX веке даже собака — большой человек: Верный Руслан значимее и сознательнее Каштанки, не говоря о Муму. Почти все советские герои — официальные и неофициальные — в той или иной мере Верные Русланы. Им типологически присуще то, что описывается строчкой «Раньше думай о Родине, а потом о себе»: общественное важнее личного. Маленький Человек брался с идеологической поверхности, умер в литературе. (В фольклоре, ближе стоящем к бытию, мельчал анекдот: вождь Ленин — герой Чапаев — персонаж Штирлиц — безымянный чукча — абстрактный и черный анекдоты без героя вовсе).
В жизни Маленький Человек тоже мельчал. Но продолжал лелеять прежний миф о себе.
Новая формула старого мифа звучала так: «Чем хуже строй, тем лучше люди» — многолетнее утешение советского человека.
Концепция романтическая, с вариациями вроде: только в бедных хижинах живет искреннее чувство. Основана на механизме компенсации порождающем банальности из числа утешительных заблуждений: если красива, значит глупа; если богат, значит зол; если нет колбасы, значит есть духовность; если дурны правители, значит прекрасен народ.
Стереотипы хороши, когда подтверждаются: на Килиманджаро вечные снега, но доктор Астров прав, в Африке — жарища. Однако плохое правительство не способствует улучшению человека. Ровно так же хорошее правительство не портит гражданина. В его силах лишь создать условия, в которых присущее человеку свинство может проявиться в большей или в меньшей степени. Если где-то что-то плохо лежит, это толкает к воровству, но еще больше — если у тебя самого и хорошо-то не лежит ничего.
Вот это «ничего не лежит», отрицание частной жизни и собственности вело не только к выносу кожзаменителя через брешь в заборе, но и дальше. Нечем заткнуть брешь в пронизанной информацией и оттого катастрофической повседневности человека XX столетия — разрыв между религиозным представлением о взаимосвязи явлений и эмпирикой жизни, убеждающей в хаотичности, случайности и необязательности происходящего вокруг.
В нормальных условиях разрыв восполняется частной жизнью, ее убедительной разумностью и необременительным ритмом. На это работают и логичные экономические законы: лучше трудишься — больше получаешь и удобнее живешь. Священник или психиатр тоже помогают упорядочить эмоциональный и нравственный опыт. Главный же стержень — «свое», прежде всего «свое» материальное: собственность. Тот стержень, на который можно накручивать уверенность в будущем, а значит, и в настоящем.
Советский Маленький Человек всех таких опор был лишен. Идея собственности даже не чужда, а просто незнакома. Так эмигрантские дети плохо говорят по-русски не только по безразличию родителей, но и оттого, что целый пласт понятий входит в их сознание на ином языке.
Чем заполнять провал? Мифологией, демонологией, а в ежедневной жизни примыканием к большому. Этому искусу поддались и самые талантливые:
Пастернак, Олеша, Заболоцкий, Зощенко, Мандельштам. Смирение малого перед большим, младшего перед взрослым. Советская культура по преимуществу — подростковая, детская, младенческая. Ориентация на архетип младенца проявлялась разнообразно: бездомность (одна колыбель, и та революции), нагота (не нищета, а антивещественность), бесполость (антиэротизм).
Но как слова «я человек маленький» произносятся с расчетом на прямо противоположное впечатление, так Маленький Человек в своей малости не признавался, да и не осознавал ее. Осознали опять-таки писатели, разочаровавшиеся в любимом герое.
Сколько же разочарований надо было пережить, сколько даров принять, сколько ударов перенести, скольким искушениям поддаться, чтобы оторваться от традиции. Чтобы перестали персонажам сниться алюминиевые дворцы и великие вожди (в этом смысле Чернышевский и Павленко современники), чтобы сон не отличался ни красотой ни масштабом от яви, а совпадал с ней, как у Сергея Гандлевского:
Приспособить вряд ли удастся — очень уж длинна страна. Чудно назначают свидания в русской словесности: «в старом парке как стемнеет». И парк на гектары, и темнеет не враз. Пространства и времени полно — ведь это главное, а не встретиться. Тем более, не доску прибить. Может, оттого
У Иосифа Бродского — нет почтительности к масштабам, своя малость по сравнению со страной вызывает лишь грустную усмешку изгнанника:
Обмен комфорта примыкания на неуют свободы произошел добровольно и осознанно:
Обмен произошел — самое важное! — сугубо индивидуально, то есть аристократически, что уж совсем далеко от Маленького Человека. Как же нужно было отойти от него, чтобы рассмотреть со стороны (в микроскоп? в телескоп?) и ужаснуться. XX век в страхе и трепете испытал с помощью Гитлера и Сталина, каков на практике теоретически описанный Ортегой «человек массы». Российская практика оказалась наиболее долгой и действенной. Как зверски, с мясом надо было оторвать традицию, чтобы проникнуться к Маленькому Человеку не сочувствием, но отвращением: «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые… Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…»
Свирепая ирония Венедикта Ерофеева многократно перекрывает леонтьевское раздражение от «пиджачной цивилизации средних, сереньких людей». Но и слова из «Москва-Петушки» кажутся умильными по сравнению с ерофеевской же дневниковой записью: «Мне ненавистен простой человек, т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его „простота“, наконец».