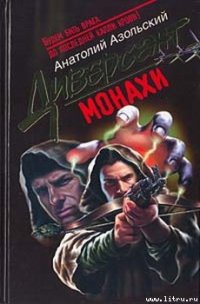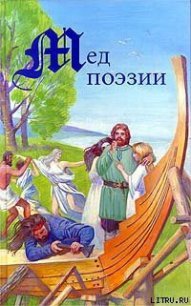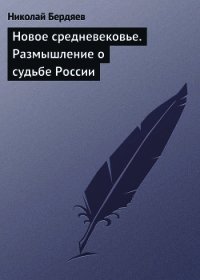Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства - Гуревич Арон Яковлевич (серии книг читать онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Я начал с утверждения, что крестьянин почти не находит себе места в раннесредневековой культуре, третирующей его как своего рода «бесконечно малую величину». Но, как выясняется, эта величина на самом деле была не столь уж ничтожна. Фигуры крестьянина действительно нет на переднем плане, и нужны особые «реактивы», чтобы ее выявить. В этом смысле культура Раннего Средневековья напоминает палимпсест, новые письмена которого скрывают первоначальный текст. Прочтение его — задача, к решению которой историческая наука только еще подходит.
Часть II ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕК
Период, когда данных о распространенных в народе верованиях и представлениях становится намного больше, нежели в Раннее Средневековье, — это XIII столетие. По мысли Жака Ле Гоффа и Ж.-К. Шмитта, то было время «прорыва» в письменность живого слова, звучавшего на городских площадях и даже в деревне (157, с. 257–279).
В проповеди, которая переживает беспрецедентный расцвет в результате деятельности новых нищенствующих орденов, явственно слышны отголоски речей простого человека, — к нему обращена проповедь францисканских и доминиканских монахов; они действовали в гуще народа и искали с ним общий язык. Проповедь насыщается описаниями сцен из жизни верующих, и, хотя эти анекдоты — exempla, бесспорно, стилизованы и прошли сквозь призму дидактической морализации, они приоткрывают завесу над многими тайнами духовного универсума горожан, крестьян, монахов, мелких рыцарей.
В эпических памятниках обретают новую жизнь мотивы старых преданий и сказаний. Конечно, эпос XIII в. воплощал этику и представления рыцарства, но изучение его может выявить определенные аспекты мировидения, присущего человеку той эпохи.
Тринадцатый век — век расцвета городской литературы, и прежде всего такого своеобразного ее жанра, как фаблио. В этих занимательных и веселых, подчас сатирических стихотворных новеллах перед нами проходят самые разнообразные социальные типы. В фаблио находят выражение умонастроения простых горожан, отчасти и других слоев населения, повседневность, низменные аспекты бытия, не удостаивавшиеся внимания в других жанрах средневековой литературы.
Но панорама духовной жизни XIII столетия предстала бы перед умственным взором историка культуры обедненной и неполной, если бы он обошел стороной то в высшей степени своеобразное интеллектуальное движение, которое одновременно развертывалось на севере Европы. Я имею в виду расцвет древнескандинавской словесности, приходящийся опять-таки на XIII в. Запись песней о языческих богах и о героях седой старины, сочинение саг об исландцах и о норвежских конунгах — ярчайшие проявления средневековой культуры в ее северном варианте. Эта памятники интенсивно изучаются, но, как правило остаются за пределами общего духовного развития Запада в интересующий нас период. Между тем анализ древнесеверных саг и песней дал бы возможность познакомиться с такими сторонами средневекового мировидения, которые отражают не одну лишь скандинавскую «экзотику», но и глубинные пласты сознания человека той эпохи не нашедшие воплощения в памятниках других стран Европы. «Отставание» Скандинавии от темпов европейского социального и культурного развития, ее сравнительно позднее приобщение к христианской культуре способствовали тому, что здесь были надолго «законсервированы» архаические традиции духовной жизни, несомненно существовавшие (отчасти в других формах) и на континенте, но ушедшие под напором церковной и феодальной идеологии в глубокое «подполье».
Мне и хотелось бы предпринять анализ отдельных категорий памятников XIII в, с тем чтобы попытаться с разных сторон взглянуть на внутренний мир человека, который, по существу, игнорировала официальная идеология Средневековья, воплощенная в «высших» жанрах тогдашней литературы, в высказываниях схоластов, богословов и иных теоретиков.
Одна из наиболее разительных черт памятников XIII столетия, которая выражает существенные сдвиги в сознании населения Западной Европы, — это обострившееся чувство времени.
В самом деле, в начальный период Средних веков восприятие времени было подчинено идее вечности, — о ней неустанно твердили мыслители и проповедники, стремившиеся внушить пастве мысль о том, что, подобно тому как телесная жизнь не идет ни в какое сравнение с жизнью души, так и земное время, время жизни бренного человека, — ничто в сопоставлении с вечностью, к которой и должны быть обращены все помыслы. В изобразительном искусстве застывшие в торжественных позах фигуры как бы изъяты из хода времени, они соотнесены с вечностью. По этой причине, а вовсе не потому, что художники Раннего Средневековья якобы были «неумелыми» или «наивными», не придавалось большого (или вовсе никакого) внимания индивидуальным чертам изображаемого человека. Настоящий момент, сиюминутность не заслуживали интереса.
Но невнимание к ходу времени проистекало не из одной лишь религиозной установки на вечность. Это невнимание было характерно для сознания, ориентированного на миф и предание. «Мало что было еще раньше, то было вдвое раньше» — эти слова из эддической «Речи Хамдира» как нельзя лучше выражают установки архаического сознания в отношении восприятия времени. События, воспеваемые мифом, свершились в седой старине, неведомо как давно, и не возникает потребности как-то локализовать на временной шкале эти героические деяния. Эти события, которым придается абсолютная ценность, отделены от времени, когда их воспевают, эпической дистанцией. Лишь в XIII в., когда, как уже упомянуто, формируется новое темпоральное ощущение, предпринимаются попытки перебросить «мостик времени» от эпической старины к современности. Именно в XIII в. Снорри Стурлусон «привязывает» события из жизни скандинавских языческих богов, превращенных им в людей — но, конечно, в людей особого рода, в своеобразных «культурных героев», — к истории королевских династий Швеции и Норвегии. В XIII же столетии автор «Песни о Нибелунгах» создает сложную композицию, в которой легендарная древность, окрашенная мифом и сказкой, сплавляется с историческим временем.
Как видим, новое осознание времени действительно прорывается в письменность в XIII в. Как не вспомнить тут о том, что именно в конце этого века были изобретены механические часы, которые вскоре же украсили башни ратуш и церквей крупнейших городов Европы: в 1300 г. — в Париже, 1309—в Милане, 1314—в Кане, в 1325 г. — во Флоренции, затем в Лондоне, Падуе, Страсбурге, Генуе, Болонье, Сьене, Ферраре… Каждый час суток отбивали они громким звоном или, как в Страсбурге, криком заводного петуха. Новое изобретение, выражавшее резко возросшую потребность общества, бюргеров прежде всего, в точном определении часа, было, вне сомнения, симптомом изменившейся установки в отношении времени. Время сакральное, время, монополизированное церковью, оттесняется временем мирским, временем труда и досуга, «временем купцов», по выражению Жака Ле Гоффа.
Естественно поэтому, что и в литературе XIII в., и притом в самых разных ее жанрах, от эпоса до нравоучительных «примеров» и от «видений» потустороннего мира до проповеди (я упоминаю лишь те формы средневековой словесности, которые были адресованы широким слоям населения и воспринимали идущие от них импульсы) мы встречаемся все с той же проблемой переживания и истолкования времени и даже с размышлением над его природой — с пр о блемой, каковой время сделалось для средневекового человека. Не есть ли это новшество яркий симптом перестройки человеческого сознания, интериоризации времени как неотъемлемого «параметра» средневековой личности?
В изучаемых нами памятниках письменности время выступает в качестве неотчленимой составной части и основы организации материала произведений того или иного жанра — в качестве «хронотопа», пространственно-временного единства, природа которого во многом определяет структурные особенности и поэтику данного жанра средневековой словесности.
Но перед нами не просто поэтика, это симптом изменений общественного сознания. Нечто подобное одновременно происходило и в иконографии. Вспомним, что как раз в XIII в. в искусстве человека начинают изображать в его временной жизненной определенности, не как абстрактный тип, отвечающий обобщенным и идеальным «родовым» или «сословным» критериям, но в виде обладателя индивидуальных качеств, тем самым подготовляя переход к портрету более позднего времени. Поэтому постановка вопроса о «хронотопе» приобретает особое значение, выходящее, как мне представляется, за пределы литературных жанров.