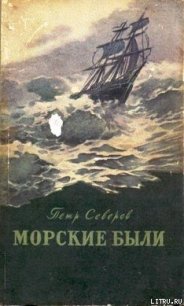Карта родины - Вайль Петр (онлайн книги бесплатно полные .TXT) 📗
Где он был? Что за помрачение ума и таланта, которыми был наделен этот человек? Отчего не насторожила фальшь в глазах, если уж ее заметил? Ясно: дорожки, клумбы, отрепетированные вопросы — быстро и умело выстроенная очередная потемкинская деревня. Но ведь это же Горький — человек незаурядного дара проницания, ведающий жизнь и ее низы, как мало кто из бравшихся за перо. Есть верные свидетельства того, что он знал правду, а что подозревал ее — вне всяких сомнений. Наверное, наверняка он не мог сказать правду публично, но на своей высоте положения мог ничего не сказать. Однако благостные картинки Соловков соперничают со светлыми фресками и витражами его московского дома, подаренного Сталиным особняка Рябушинского на Спиридоновке. Не хочется думать, что в этом дело: дом Горького в Сорренто — немногим меньше и роскошнее, а уж вид из окна понаряднее. Да и не тот калибр этого человека — просто купить Горького не удалось бы. Тиражи и слава у него были мировые: так что почет — хоть и козырь, но вряд ли решающий. Он вернулся на родину своего родного языка и своего главного читателя — вот естественный писательский мотив, вернулся после сомнений и споров с близкими и с самим собой, зная, что жертвует и рискует многим. Шел всего лишь первый год советской жизни Горького, требовалось убеждать себя в верности сделанного выбора, глаз и ухо отсекали все то, что могло уколоть и укорить неправильностью совершенного поступка.
Психологически такая избирательность восприятия объяснима, понятна. Он переступил границу государственную и иные — и доказывал себе, что по ту сторону, где он теперь, все в порядке. Оттого и увидел с Секирной горы одно лишь благолепие, оттого смотрел на Соловки и на все большие советские соловки с птичьего полета. Да еще плакал все время от умиления — какая уж там точность взгляда сквозь линзу слезы?
«Суровый лиризм этого острова, не внушая бесплодной жалости к его населению, вызывает почти мучительно напряженное желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности». Каково в этом болезненном самозаводе писательское словосочетание — «бесплодная жалость»?
Олег Волков: «В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма, — в версте оттуда, по прямой, озверевшие надсмотрщики били наотмашь палками впряженных по восьми и десяти в груженные долготьем сани истерзанных, изможденных штрафников».
Горький не захотел увидеть этих ВРИДЛО — «временно исполняющих должность лошади», зато посмотрел и послушал в бывшей трапезной для богомольцев концерт силами заключенных: Россини, Венявский, Рахманинов, Леонкавалло. На Соловках Горький обосновал привилегированность «социально близких» уголовников по сравнению с «врагами народа»: «Рабочий не может относиться к „правонарушителям“ так сурово и беспощадно, как он вынужден отнестись к своим классовым, инстинктивным врагам, которых — он знает — не перевоспитаешь». И подвел итог: «Мне кажется, вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки».
Статус писателя в России потому и был так высок, что его спрашивали обо всем, всему лучшему в себе были обязаны книгам, как сказал тот же Горький, но время от времени (подобно Василию Розанову, возложившему именно на писателей вину ни больше ни меньше — за революцию) и спрашивали за все. Оттого Волков не прощает и Пришвина, посетившего Соловки вслед за Горьким: «Лакейской стряпней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста».
Михаил Пришвин тоже поднимался на Секирку, любовался видом, нашел метафору («остров как решето»), а в окончательных выводах пошел даже дальше: «Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера… В будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило».
Доктора сами решали, кого куда посылать. Как раз в те времена, когда замечтался Пришвин, комиссия ГПУ проверяла на Соловках «деятельность надзорсостава и медперсонала»: «Одного неумершего доктор Пелюхин направил в могилу, но „покойник“ начал как бы вылезать из могилы, а санитары сказали, что доктор лучше знает, жив ты или умер».
КОМАНДИРОВКА ГОЛГОФА
В Соловецком лагере погибли тысячи, точно подсчитать невозможно. Выжившие зэки неизменно говорят и о том, как удавалось или не удавалось уцелеть не только физически. Понятно, что человек должен быть жив, сыт и свободен — в этом единственном порядке. Но если уж жив, то заботится о душе. Олег Волков: «Жить не в грозном, фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду — помойной яме?! И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет».
В фильме Марины Голдовской «Власть Соловецкая» бывший зэк Ефим Лагутин стариковским фальцетом поет на мотив «Гоп со смыком»:
Как суметь не задаться последним вопросом: «Ах, зачем нас мама родила?» — таких рецептов нет и быть не может. Юрий Бродский рассказывал мне, что о методах выживания Лихачев и Волков говорили по-разному. Лихачев вспоминал образцы героизма и стойкости, а Волков объяснял, что главное: не материться, по утрам здороваться, ежедневно мыть руки.
В его книге «Погружение во тьму» описан зэк — заведующий зверофермой.
(Из Сибири и из-за границы на островки Долгой губы завезли чернобурок и соболей, из Мурманска и с Командорских островов — голубых и белых песцов, из Германии — кроликов-шиншилл.) У него стояли книги: «Байрон и Теккерей в оригиналах во владении соловецкого заключенного — в этом было что-то несообразное. Даже нелепое, как если бы в мешочнике, лихо продирающемся в осаждающей вагон толпе, узнать… Чехова».
Но каким образом не узнать в себе — мешочника, попрошайку, предателя, труса, подлеца? Какое счастье — прожить, не узнав себя до конца.
Кто это умный из древних сказал: «Познай самого себя»? Боже упаси.
Главная заповедь здравого смысла, в просторечии именуемого мудростью, — жить в согласии с собой. Помимо прочего, это подразумевает довольно противные вещи: знать о себе мерзости и с ними мириться. А что еще? Не упрекать же себя в излишней доверчивости или неразумной щедрости — и хотелось бы, но приличия не позволяют.
Речь не о тех грехах, с которыми валится в растоптанный снег Раскольников, — это красота, до такого безобразия необходимо вознестись, если удастся. Убить — надо уметь. Обычный удел — проще и мельче. Кража мелочи из карманов на соседских вешалках, мелкие подлости умолчания или словоизъявления, мелочная зависть и гневливость. Доносительство, пусть невольное; злоба, пусть праведная; клевета, пусть простодушная; измена, пусть искренняя; обман, пусть добросердечный; ложь, пусть вдохновенная. Можно все это холить и лелеять — так художественнее и наряднее, можно понимать и принимать — так удобнее и проще, можно казниться и каяться — так честнее и глупее. Глядеть в зеркало, как в обвинительный документ: глаза бегают, губы раздвигаются в улыбке, потому что надо и дальше жить. Такое легко преодолимо, и мы преодолеваем. Малый грех — не грех вовсе. Иначе непредставимо, да и невозможно. Только подумать, что произошло бы с тобой в соловецком, лубянском, освенцимском антураже. Вообразим приближение раскаленного металла, или щипцов, или электрического шнура. Что там в моде — паяльник, утюг? Или простые слова: «У вас ведь семья…». Ноги ватные, голос покорный.