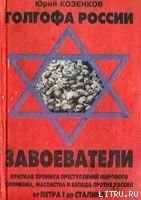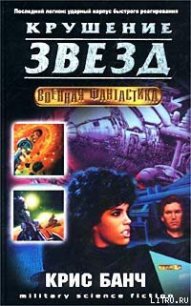«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (е книги TXT) 📗
Сам Вяч. Иванов вполне сознавал не просто вину за произнесенные им слова, а дьяволизм произнесенных слов, и не только в «Песнях смутного времени» эпохи революции и гражданской войны, но и в своем шедевре — «Римском дневнике 1944 года». Мало хорошего ждал он от загробной жизни, видя свой грех именно в игровой константе своего бытия:
«Так, вся на полосе подвижной…», 11 мая (курсив мой. — В. К.)
В стихах 1919 г. Иванов полагал, что в огне революционного бунта сгорит его сердце. Сердце не сгорело, он предпочел устраниться от борьбы, бежать из России, «кровью умытой», но двусмысленно — с советским паспортом и не в гущу эмигрантской борьбы, а в вечный Рим. Аверинцев, человек абсолютной нравственной позиции, для которого выражение «порядочный человек» (105; о Ф. А. Петровском) сохраняет всю силу чеховско- интеллигентской установки, хочет видеть такую же совесть в Вяч. Иванове. Но не случайно Бердяеву казалось, что поэт был в период своей советской жизни коммунистом (98). Впрочем, и в книге вырисовывается портрет человека дву — и-многосмысленного, весьма духовно богатого, гениально одаренного мыслителя и поэта, который после «подчас далеко заводивших блужданий» (62) «лишь в римские годы» (61) сумел и впрямь встать вровень с нравственными задачами дикого ХХ века.
Очень убедителен анализ католического завершения жизни Вяч. Иванова, которое, по мысли Аверинцева, не было «выходом» из православия, ибо поэт не произнес отречения от прежней конфессии, прочитав вместо этого отрывок из трактата Вл. Соловьева «Россия и Вселенская церковь». Интересна трактовка близости Иванова и Бубера: минуя рассуждения о близости их философской позиции, Аверинцев замечает: «У Иванова его русскость соединяется с германской и вообще европейской культурной нормой примерно на тот же манер, что у Бубера — его ашкеназийские корни» (113). Такая христиански — европейская всепримиримость мудрости, выросшая из игрового начала «Серебряного века», говорит нам о том лучшем, что, возможно, могло бы стать определяющей линией русской культуры, если бы не мировая война, не революция, не гражданская война и еще много других «если бы не». Остается, однако, явление культуры, требующее соразмышления и анализа. Тем более что «творчество Вяч. Иванова очевидным образом связано с сюжетом его жизни» (120). Приобщаясь к его творчеству, входя в его жизнь, мы приобщаемся к одной из самых проблемных страниц в истории русской культуры. Это тем важнее в данном случае, что проводником по его творчеству оказывается человек ему конгениальный, который, не скрывая проблематичности поэта (даже подчеркивая ее), вместе с тем вычленяет благородную нравственно — эстетическую результирующую его творчества, выполняя в данном случае и воспитательную функцию по отношению к тем, кто откроет книги поэта.
Глава 24 Густав Шпет как историк русской философии
1. Шпет и история русской философии
Еще не так давно, в конце 40–х годов прошлого века, Г. Г. Шпет был фигурой не очень осознанной. Воспринимался он всеми как правоверный гуссерлианец, слишком европеец даже среди русских западников, и его философская и историософская позиция не воспринималась как нечто своеобразное, имеющая самобытное значение. Более того, сама жизнь и смерть его были скрыты столь густой завесой, что дало основание Зеньковскому написать такую фразу: «После 1927 г. Шпет, по — видимому, ничего не печатал, и самая судьба его остается неизвестной» [1088]. Но и в 1989 г. в предисловии к первому изданию сочинений (однотомнику избранных работ) Густава Шпета Е. В. Пастернак писала: «К сожалению, в его родной стране уровень исследования творчества философа находится почти на нулевой отметке; так, двадцать лет пролежала без движения книга работ Шпета по эстетике, составленная в 1967 году его дочерью Л. Г. Шпет, но, надо надеяться, в связи с рядом намечающихся переизданий интерес к идеям Шпета будет развиваться» [1089]. Этот том был издан в серии «Из истории отечественной философской мысли». В него вошли три работы: «Очерк развития русской философии», «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую философию». Выбор этот объясняется просто: у меня как издателя были только эти книги.
Впрочем, был и другой резон в таком выборе: шпетовская история русской философии признавалась даже таким ироничным по отношению к Шпету исследователем, как о. Василий Зеньковский. Он писал: «Книга Шпета, к сожалению, вышедшая лишь в ч. I — й, является самым ценным и основательным исследованием по истории русской философии (курсив мой. — В. К.). Ч. I обнимает период от начатков философии до начала 40–х годов. Автор — превосходный этого периода, его работа вся основана на первоисточниках, дает почти всегда точное и ясное изложение. К сожалению, книгу очень портит докторальный тон автора, с высоты своей позиции (Шпет — последователь Husserl^) делающего иронические нотации различным авторам. Это лишает автора исторической вдумчивости, — но при всей неуместности насмешливых, а иногда и презрительных замечаний автора, книга Шпета является все же очень ценным трудом по истории русской философии» [1090]. Об этой насмешливости Шпета необходимо что‑то сказать, но чуть позже, в контексте его взгляда на Россию. Зеньковский, разумеется, был не одинок в своих похвалах- порицаниях этому трактату Шпета. Задолго до него такое отношение уже было артикулировано в русских эмигрантских кругах. Так, Александр Койре в 1924–1925 гг. во Франции читал курс лекций по истории русской философии, который потом был им опубликован по — французски в 1929 г. и недавно переведен у нас под названием «Философия и национальная проблема в России начала XIX века». Он писал там: «К сожалению, история философских идей в России никогда (или, по крайней мере, до самого последнего времени) толком не изучалась» [1091]. В примечаниях к этой фразе (о «последнем времени») Койре замечал: «Мы имеем в виду превосходный труд Г. Шпета “Очерк развития русской философии” (М., 1922). Шпету можно бросить упрек лишь в связи с его чрезмерно суровой оценкой русских философов, да и судит он их с точки зрения, которая никак не могла быть их собственной. Как бы то ни было, “Очерк.” Шпета представляет собой первый по — настоящему научный и полный труд о первых этапах философии в России» [1092]. А. М. Руткевич в послесловии не без основания при этом пишет о Койре, что «иной раз он просто пересказывает “Очерк развития русской философии” Г. Шпета» [1093].
Публикуя этот том в нашей серии, мы ходили тогда в дом к Елене Владимировне Пастернак, и из семейного архива по рукописным копиям восстанавливали пропуски «Эстетических фрагментов», которые в прижизненную книгу не вошли, изъятые при первопубликации. Хотя при этом было ощущение, что сохранились лишь отдельные прижизненные издания, и переиздать — это максимум того, что мы можем сделать. Но, как оказалось, эта публикация стала началом, далее пошли другие переиздания, в том числе и издания архивные. К счастью, архив не пропал. Его начали печатать, в том числе и в нашем журнале «Вопросы философии» — публикации Л. В. Федоровой, Н. К. Гаврюшина, Т. Г. Щедриной и т. д. И вроде бы сожженный ствол вдруг начал распрямляться, оживать, зеленеть. Вышли в свет интересные работы о Шпете В. П. Зинченко, В. Г. Кузнецова, А. А. Митюшина… Четыре года назад опубликована книга В. П. Зинченко: «Мысль и Слово Густава Шпета» М., 2000. Издана замечательная книга Т. Г. Щедриной («Я пишу как эхо другого». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М.: Прогресс- Традиция, 2004), рассматривающая творчество философа в контексте русской общественной мысли и русской культуры. И, наконец, нельзя не отметить интеллектуальный подвиг Т. Г. Щедриной, подготовившей (в том числе по архивным материалам) и уже опубликовавшей восемь томов сочинений Шпета. И стало понятно (впрочем, это было и раньше некоторым понятно, а потом это стало явно для всех), что это большая фигура, крупный мыслитель, что сам Шпет — часть истории русской философии, о которой он написал свой блистательный «Очерк развития русской философии». И, конечно, об этом нельзя забывать, даже говоря о нем лишь как об историке русской мысли. Не случайно ему посвящены главы не только в труде Зеньковского, но и в «Истории русской философии» Б. В. Яковенко (хотя он не вошел в «Историю.» Н. О. Лосского), в современных историях — И. И. Евлампиева, Б. В. Емельянова и др.