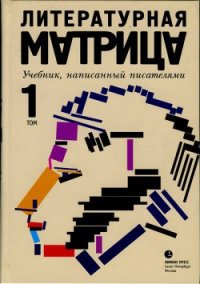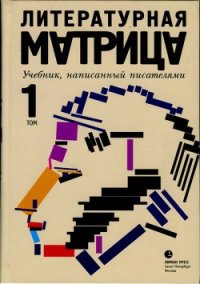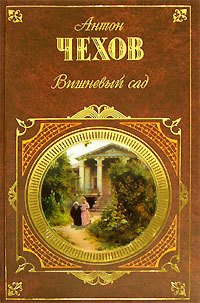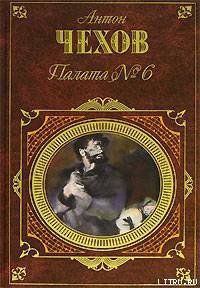Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Включенный в школьную программу «Последний бой майора Пугачева», где изложена история побега, перестрелки и гибели беглецов, — нетипичная для Шаламова вещь. Бой описан с вызывающей, принципиальной скупостью. Зато подробно дана биография главного героя, боевого офицера, бежавшего из немецкого плена и тут же посаженного своими на десять лет, за измену Родине. Майор вспоминает немецкий лагерь, где все пленные — французы, англичане — получали от родственников посылки, и только русские солдаты ничего не получали. Родина от них отказалась. Майора пытались завербовать в армию Власова — майор не пожелал предавать Родину, которая предала его. Из сталинского лагеря майор бежит не на свободу — он хочет умереть как человек, как воин, с оружием в руках.
Шаламов не пугает. Он слишком уважает и себя, и читателя. Он создает свои рассказы для того, чтобы люди увидели: «моральный прогресс» есть фикция, опасная иллюзия. Тысячи великих просветителей, гуманистов, философов, писателей, общественных деятелей на протяжении сотен лет создали тысячи великих произведений искусства и научных трудов, совершили миллионы благороднейших поступков — но никак не изменили род человеческий; люди продолжают убивать себя и ближних. Грохочут войны, пылают печи Освенцима, невиновные уезжают по этапу, чтобы сгнить в болотах и тундрах. Именно этого Шаламов не может понять, именно этого он никогда не простит человечеству, именно это — тема творчества «русского Данте». И именно это до сих пор отвращает от Шаламова кабинетных человеколюбов. Его презрение к «прогрессивному человечеству» (расхожий термин советской публицистики второй половины XX столетия) было последовательным и твердым. «Неужели по моим вещам не видно, что я не принадлежу к „прогрессивному человечеству“?» — такова одна из десятков схожих язвительных пометок в его записных книжках.
Он пытается опубликовать свои тексты тогда же, в конце 1950-х. Но его ждет разочарование. Легендарной публикацией в «Новом мире» рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» лагерная тема в официальной советской литературе была открыта — и закрыта. Шаламов, по одним свидетельствам, горячо приветствовал триумфатора Солженицына, по другим — резко критиковал его творение. Конечно, Шаламову было больно: к моменту появления «Ивана Денисовича» он уже десять лет работал над своими рассказами, и значительная их часть была готова, и подборка лежала у Твардовского в том же «Новом мире». Но Шаламову не повезло. Хрущев швырнул либеральным интеллигентам, «прогрессивному человечеству», кость — второй не последовало.
Нужна лагерная проза — вот вам лагерная проза, литературное свидетельство из первых уст, пожалуйста. А Ша-ламов не нужен. Достаточно одного Солженицына.
Можно предположить, что история с «Иваном Денисовичем» травмировала Шаламова. Отношения двух лагерных летописцев не сложились. Хотя Солженицын, по его собственному утверждению, даже предлагал Шаламову совместную работу над «Архипелагом». Шаламов отказался.
Он так и не увидел свои рассказы опубликованными на родине.
Но даже если допустить, что Шаламов завидовал своему удачливому коллеге — повода для упрека здесь не найти. Семнадцать лет лагерей и десятилетия работы «в стол» не сломали, разумеется, Шаламова, но превратили его в стоика. В человека, нетерпимого к малейшим намекам на фальшь, неискренность, жажду мирских благ. Следует повторить: упреки недопустимы, применять к судьбе Варлама Шаламова обычные критерии — значит, ничего не понимать в истории России и ее литературы.
Неизвестно, что хуже: семнадцать лет просидеть в лагерях — или на протяжении двух десятилетий создавать нестандартную, передовую прозу безо всякой надежды опубликовать ее.
Известны тысячи случаев, когда люди, подобно Шаламову, сидели в лагерях десятилетиями, прошли через немыслимые муки и не сломались, уцелели — но, оказавшись на свободе, умирали, не прожив и года. Свобода ослабляет волю к сопротивлению.
Шаламов не умер, не ослаб.
Подвиг Шаламова не в том, что он физически выжил в лагере, а в том, что он творчески выжил после лагеря.
Ему удалось напечатать несколько подборок стихотворений. Он страстно любил поэзию, уважал Пастернака, его записные книжки полны размышлений о Есенине, Ахматовой. Он горько пишет о себе: «Пять чувств поэта: зрение — полуслепой; слух — оглохший от прикладов; осязание — отмороженные руки нечувствительные; обоняние — простужен; вкус — только горячее и холодное. Где же тут говорить о тонкости. Но есть шестое чувство: творческой догадки».
Колыма отобрала у него все здоровье. Он страдал болезнью Меньера, мог потерять сознание в любой момент, на улицах его принимали за пьяного. Его рассказы были «бестселлерами самиздата», ими зачитывались — сам писатель жил в крошечной комнатке, едва не впроголодь. Тем временем Хрущева сменил Брежнев; трагические лагерные истории о сгнивших, замерзших, обезумевших от голода людях мешали строить развитой социализм, и советская система сделала вид, что Варла-ма Шаламова не существует.
Чрезмерно прям, тверд. Неудобен. Не нужен.
Он открыто издевался над идеями Макаренко о «перековке» — перевоспитании трудных подростков, воров, уголовников. А ведь Макаренко считался лидером социалистической педагогики.
Он презирал Льва Толстого. Писал: «…хуже, чем толстовская фальшь, нет на свете». А ведь Толстой, с легкой руки Ленина, был «зеркалом русской революции», «глыбой», «матерым человечищем».
1972 год. Шаламов публикует в «Литературной газете» открытое письмо: резко, даже грубо осуждает публикацию своих рассказов эмигрантским издательством «Посев». Воинствующие диссиденты тут же отворачиваются от старика. Они думали, что он будет с ними. Они думали, что Шаламов — этакий «Солженицын-лайт». Они ничего не поняли. Точнее, это Шаламов уже все понимал, а они — не сумели. Миллионы заживо сгнивших на Колыме никогда не интересовали Запад- Западу надо было повалить «империю зла». Западу в срочном порядке требовались профессиональные антикоммунисты. Солженицын, страстно мечтавший «пасти народы», отлично подошел, но его было мало — еще бы двоих или троих в комплект… Однако Шаламов был слишком щепетилен, он не желал, чтобы чьи-то руки, неизвестно насколько чистые, размахивали «Колымскими рассказами», как знаменем. Шаламов считал, что документальным свидетельством человеческого несовершенства нельзя размахивать.
Вообще ничем никогда нельзя размахивать.
Открытое письмо возмутило Солженицына. «Как? Шаламов сдал наше, лагерное?!» А Шаламов не сдавал «наше, лагерное» — он инстинктивно и брезгливо отмежевался от «прогрессивного человечества». Тем временем упомянутое человечество вручило Солженицыну Нобелевскую премию, и всемирно известный борец с режимом, перебравшись на Запад, на долгие годы фактически «приватизировал» лагерную тему. Тогда как Шаламов, глубоко презиравший даже намеки на саморекламу, последовательный атеист, человек-кристалл, скептик, гений сардонической усмешки, враг любого компромисса — оставался известным только узкому кругу почитателей. Для «прогрессивного человечества», всегда готового аплодировать живописным героям, Шаламов был слишком сух, презрителен, улыбался слишком горько и формулировал слишком беспощадно.
По Шаламову, сталинский лагерь являлся свидетельством банкротства не «советской» идеи, или «коммунистической» идеи, а всей гуманистической цивилизации XX века. При чем тут коммунизм или антикоммунизм? Это одно и то же.
А уж если говорить о нынешней бестолковой и крикливой цивилизации века XXI-го — с ее точки зрения Вар-лам Шаламов, конечно, типичнейший лузер, тогда как Солженицын — гений успеха. Один полжизни сидел, потом полжизни вспоминал и писал о том, как сидел, почти ничего не опубликовал и умер в сумасшедшем доме. Другой сидел три года, шумно дебютировал, бежал в Америку, сколотил миллионы, получил мировую известность, под грохот фанфар вернулся на родину, с высоких трибун учил жизни соотечественников и окончил дни в звании «русского Конфуция».