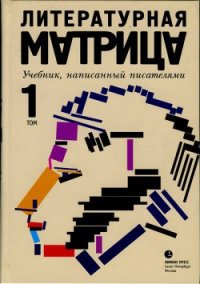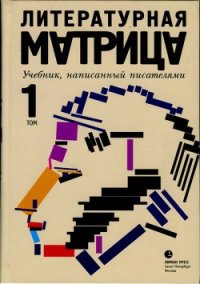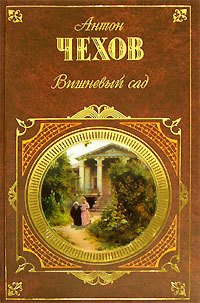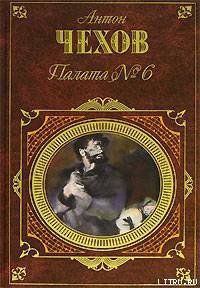Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
Вообще-то, в «Теркине» интереснее всего оговорки, неотрефлексированные мифологемы, речевой поток, которым маскируется страх.
Так, на предполагаемый вопрос читателя о судьбе героя поэмы автор отвечает, что решил оставить ее без событийного финала: «Почему же без конца? / Просто жалко молодца». Жалко, потому что шансы выжить, проведя четыре года в пехоте, — невелики, и поэт об этом проговаривается. Повторяется подобная оговорка и самим Теркиным в знаменитой главе «О награде» (ее часто исполняли по советскому радио как юмористическую): «Буду ль жив еще? — Едва ли». В другом месте (глава «Теркин — Теркин») герой возвращается после ранения в свою часть, но потери за несколько месяцев были столь велики, что он не застает никого из сослуживцев.
Чрезвычайно интересна выплывшая из стихийного месива представлений, которые и составляют основу идентичности (русской или советской, в данном случае — не важно), фраза: «Что там, где она, Россия, / По какой рубеж своя?» Ее можно понимать двояко: и в смысле того рубежа, дальше которого отступать нельзя (опять-таки, для непредвзятой точки зрения может быть вариант: нужно погибнуть, а может быть вариант: нужно сдаваться), и в смысле того рубежа, именно с которого начиная отступать нельзя и можно погибнуть. Последнее не так парадоксально, если учесть, что граница в том виде, в котором она проходила летом 1941 года, была установлена лишь летом 1940 года, то есть всего год назад, и притом она не была ни исторически освященной (Галичина и Буковина никогда не входили в состав России), ни этнической даже в самом широком смысле этого слова (в Литве или Бессарабии мало кто понимал по-русски). Примечательна оговорка на эту же тему из стихотворения того же времени и той же поэтики «Армейский сапожник»: «Кто знает, — казенной подковки, / Подбитой по форме под низ, / Достанет ему до Сычевки, / А может, до старых границ» (Сычевка — городок на Смоленщине; его упоминание можно интерпретировать как рубеж того, что до революции называлось Великороссией). Вряд ли осознанно, но автор как бы ставит вопрос об оправданности воевать и гибнугь за «новые границы», установленные в результате раздела Польши и оккупации Прибалтики.
Но, пожалуй, самое интересное — маскировка страха: шуткой или описанием физиологических подробностей. Она сопровождает почти все эпизоды, начинаясь на первой странице: уже пятнадцатая строка «сбивает» рассказчика с «поэтической» темы утоления жажды на «прозаическую» тему утоления голода (речь о смерти, а герой, как классический трикстер [410], — о еде). Еда героев Твардовского — не эпическая героическая еда (рельефнее всего изображенная у Гомера), а скорее данная герою возможность удостовериться в том, что он еще жив (так объедаются, обливаясь от слабости потом, умирающие от туберкулеза персонажи «Волшебной горы» Томаса Манна). В другом месте Теркин, поняв, что упавший в шаге от него снаряд не разорвался, справляет на него нужду.
Многое открывает в пороговом состоянии человека на войне и глава «О потере», где старый солдат теряет кисет с табаком, что вдруг оказывается именно той последней чертой, за которой начинается отчаяние («Потерял семью. Ну, ладно. / Нет, так на тебе — кисет!»), — а Теркин, даря ему свой, и тем спасая его, вспоминает аналогичный случай, когда он сам, тяжело раненный, отказывается ехать в госпиталь без потерянной шапки (шапку дарит юная медсестра, снимая с себя, и потом он все принюхивается к ее запаху). Иногда автор бросает на читателя как бы горестный молчаливый взгляд, по которому они друг друга понимают: «И забыто — не забыто, / Да не время вспоминать, / Где и кто лежит убитый / И кому еще лежать».
Есть в поэме и такие места, публикация которых в сталинские годы кажется необъяснимой из-за их сурового реализма. Например, сказанное о генерале: «Скольких он, над картой сидя, / Словом, подписью своей, / Перед тем в глаза не видя, / Посылал на смерть людей!» Или же повторенная несколько раз поговорка Теркина: «Враг лютует — сам лютуй».
Скорее всего, это — ложная постановка вопроса: то, что потрясает или шокирует нас, не обязательно потрясало и шокировало современников. Поговорка Теркина, за которой для нас могут стоять расстрелы военнопленных (в том числе массовые, как в Катыни), мародерство и изнасилования, депортация во время войны «народов, запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами», а после войны — немцев из Восточной Европы, в тогдашнем пропагандистском (плакаты на улицах) и литературном контексте звучала, говоря языком героя, «обыкновенно». Так, 19 апреля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении публичной смертной казни через повешение для «немецко-фашистских злодеев, изменников Родины и их пособников». На улицах висели плакаты «Папа, убей немца!», по радио декламировались стихи: «Так убей же немца, чтоб он, / А не ты на земле лежал…» (Константин Симонов), газетная публицистика была еще радикальнее: «Мы поняли: немцы не люди. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал» (Илья Эренбург). Вообще, жестокость или иерархичность, как в случае с теркинским генералом, сталинской России стала замечаться лишь в позднесоветские годы, когда смягчились и условия жизни, и нравы и когда ее начали проблематизировать шестидесятники.
Еще одной неожиданной особенностью поэмы является полное отсутствие в ней советской риторики. В ней не упоминаются ни «Великий Октябрь», ни Ленин, ни Сталин, ни даже СССР. Иногда даже во вред правдоподобию: среди персонажей напрочь отсутствуют представители иных, кроме русского, народов СССР, хотя их было в армии около трети (не половина, как должно было бы быть пропорционально этническому составу страны, а именно треть — из-за потери территорий, где можно было проводить мобилизацию). Простонародный тон, по природе лишенный высоких регистров, сделался для поэта, с одной стороны, защитой от необходимости произносить пропагандистские штампы, хотя бы уже потому, что эти штампы требуют владения «литературным» языком, которого деревенский малограмотный парень лишен. И этот же тон, с другой стороны, избавил (вряд ли осознанно) автора от постромантизма и литературщины (эпигонской по сути) «офицерской» лирики, наподобие «Жди меня, и я вернусь…» Симонова, объективно сблизив его «нео-фольклоризм» с общеевропейскими поисками, о которых сразу после войны стали говорить, использовав формулировку Теодора Адорно, как о поэзии после Аушвица [411]. Вот, например, как звучит программное стихотворение «Поэтика» Тадеуша Ружевича:
Тот потенциал, который Исаковский открыл в лирической песне (женской по своей природе: не случайно большая часть его песен написана от лица женщин), Твардовский перенес в крупную форму, разнообразив свой эпос лирическими (а в нескольких случаях и плясовыми) вставками, придающими тексту особого рода драматизм, как, например, в главе «Перед боем», где не могущему уснуть герою автор, ломая размер, поет как бы колыбельную песню, сравнивая шинель, в которую он закутался, со смертным саваном.
Параллельно Твардовский работал над следующей поэмой, «Дом у дороги». Она, как и «Теркин», начала публиковаться в военные годы в периодике, была завершена в 1946 году и удостоена в 1947 году Сталинской премии (правда, лишь второй степени). Ее герои — деревенская семья. Муж сначала попадает в окружение и прячется в своей, уже оккупированной, деревне (в «Теркине» этот сюжет затрагивался в эпизоде «Перед боем»), а затем, оставляя на произвол судьбы детей и, как потом оказывается, беременную жену, прорывается к «своим» (для «советского человека» здесь выбора быть не могло). Вскоре семью угоняют на принудительные работы в Германию, где жена рожает еще одного ребенка. Муж возвращается после победы на пепелище: сюжет, более всего известный по песне Исаковского «Враги сожгли родную хату» и уже затронутый в «Теркине» (эпизод «Про солдата-сироту»), — и начинает строить новый дом в надежде на возвращение семьи. Двусмысленный финал позволяет Твардовскому сохранить свою позицию не говорящего правды, но и не говорящего лжи. В 1990-е годы стало известно, что из почти пяти с половиной миллионов угнанных более двух миллионов погибли и около полумиллиона отказались вернуться, опасаясь репрессий.
410
Трикстер (англ. trickster — «обманщик, ловкач») — комический персонаж, тип которого известен уже в ранней мифологии практически всех народов земли. Поведение трикстера определяется не сознательными желаниями, а инстинктами и импульсами. — Прим. ред.
411
Адорно, Теодор (1903–1969) — немецкий философ, социолог, музыковед, композитор. Часто цитируемое замечание, которое приписывается Адорно «Как можно писать стихи после Аушвица?» (варианты: «Как можно сочинять музыку после Освенцима?»; «Писать стихи после Освенцима» — это варварство и т. п.), — по всей видимости, восходит к фрагменту книги Адорно «Негативная диалектика»: «После Освенцима чувство противится… утверждению позитивности наличного бытия, видит в нем только пустую болтовню, несправедливость к жертвам; чувство не приемлет рассуждений о том, что в судьбе этих жертв еще можно отыскать какие-нибудь крохи так называемого смысла». — Прим. ред.