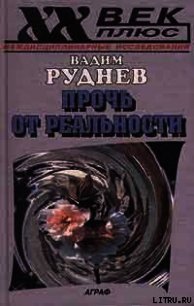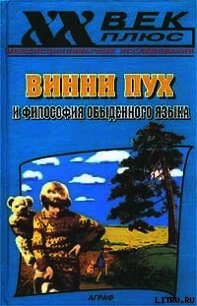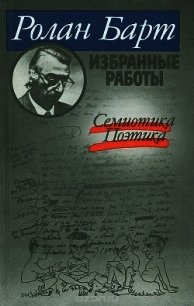Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы - Руднев Вадим (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Исследователи «Чевенгура» (в первую очередь см. замечательную книгу, комментарий к «Чевенгуру» Евгения Яблокова [Яблоков, 2001]) видят в романе переклички, цитаты и реминисценции с огромным числом русских и западных текстов писателей и мыслителей. Это «Герой нашего времени» Лермонтова – главный герой «Чевенгура» Александр Дванов со своей постоянной рефлексией напоминающий Печорина (кстати, сама фамилия «Дванов» этимологизируется платоноведами как Раздвоенный, Двоякий (ср. название книги Роналда Лэйнга о шизофрении – «Расколотое Я»); в душе Дванова живет второе Я, «маленький зритель», «мертвый брат» или «евнух души», который безучастно наблюдает за тем, что делает первое Я. Евгений Яблоков заметил почти полное сходство фразы из «Чевенгура», сказанной про Дванова: «Но в человеке еще живет маленький зритель…», – с фразой Печорина: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его» [Яблоков, 2001: 59].
Другой исследователь творчества Платонова, Марина Дмитровская, считает, что «этот постоянный и неизменный наблюдатель есть не что иное, как сверхличное и сверхиндивидуальное Я, то, что в древнеиндийской философии называется Атман. Его свойство как раз и заключается в том, чтобы быть наблюдателем» [Дмитровская, 1995: 42].
Ср. наличие подобных двух диссоциированных субличностей у великого психиатра и философа-психотика Карла Густава Юнга (о Юнге как психотике см. [Бурно, 1999; Шувалов, 2004]). Мы имеем ценное свидетельство Юнга, всю жизнь с раннего детства наблюдавшего у себя два соответствующих субличностных начала:
В глубине души я всегда знал, что во мне два человека. Один был сыном моих родителей, он ходил в школу и был глупее, ленивее, неряшливее многих. Другой, напротив, был взрослый – даже старый – скептический, недоверчивый, он удалился от людей [Юнг, 1994: 54].
Вот яркий пример равноправных Суперэго – и Ид-характеров, один – наблюдающий, другой – действующий. Эти Я № 1 и Я № 2 , как он их называет, проходили через всю жизнь Юнга.
«Мертвые души» Гоголя: Симон Сербинов едет в Чевенгур, как Чичиков в губернский город [Яблоков, 2001: 161, 267]. Сервантес – Копенкин, странствующий рыцарь мертвой Розы Люксембург, ассоциируется с Дон-Кихотом как «рыцарь революции», в то время как сомневающийся во всем, психастеничный Дванов ассоциируется с шекспировским Гамлетом [Яблоков, 1991а: 15; ср. Яблоков, 2001: 183]. Город Чевенгур напоминает щедринский город Глупов («История одного города») (ср. рассказ Платонова «Город Градов»), поэтому реминисценции из Салтыкова-Щедрина также встречаются в романе Платонова [Яблоков, 2001: 330]. Мотивы Достоевского также важны для «Чевенгура», достаточно того, что одного из героев этого произведения зовут Достоевский. Через чевенгурскую утопию проходят мотивы «Государства» Платона, «Города Солнца» Томазо Кампанеллы (Чевенгур – это город, который питается солнечными лучами. Ср. важность понятия лучей в книге психотика Даниэля Шребера «Мемуары нервнобольного» (подробно этот мотив говорящих лучей у Шребера прокомментировал Лакан в своей знаменитой статье о психозах [Лакан, 1997]) (ср. также [Сосланд, 2005]). Фридрих Ницше, Освальд Шпенглер, Николай Федоров, А. А. Богданов, А. В. Луначарский, К. Э. Циолковский, К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский, Анри Бергсон – все это кумиры Платонова, идеи которых пронизывают чевенгурскую утопию. Огромную роль в «Чевенгуре» играют евангельские мотивы, цитаты и реминисценции, подробный анализ которых содержится в замечательной докторской диссертации Марины Дмитровской «Язык и миросозерцание А. Платонова» [Дмитровская, 1999] (см. также [Яблоков, 2001]).
Автор книги о Платонове лингвист Михаил Михеев пишет:
Платонов создавал в своих произведениях, по сути дела, нечто вроде религии нового времени. Пытаясь противостоять как традиционным формам религиозного культа, так и сплаву разнородных мифологем, складывавшихся в рамках соцреализма. Среди таковых можно перечислить, во-первых, более или менее ортодоксальную коммунистическую идеологию и философию (Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина, Троцкого-Бухарина, идеологов пролеткульта и т. п.), во-вторых, философов и ученых естественно-научного направления (Максвелла, Эйнштейна, Минковского, Больцмана, И. П. Павлова, И. М. Сеченова. А. А. Богданова), в-третьих, научно-прожективные, отчасти уходящие в мистику идеи К. Э. Циолковского, Н. Ф. Федорова, П. А. Кропоткина, О. Шпенглера, В. В. Розанова, П. А. Флоренского, В. И. Вернадского, а также традиции многочисленных русских раскольников и сектантов [Михеев, 2003: 9–10].
Так что говорить о примитивности или даже псевдопримитивности прозы Платонова явно не приходится, она вся замешана на научных и философских идеях – во всяком случае в том, что касается романа «Чевенгур».
Чевенгур – это город-призрак; в этом он со-противпоставлен Петербургу. Даже просодически (трехсложное слово с ударением на последнем слоге) и фонетически эти топонимы похожи [Яблоков, 2001: 201]. И поскольку в науке давно принято понятие «Петербургский текст», разработанное в первую очередь покойным В. Н. Топоровым (см., например, его итоговую книгу [Топоров, 2004]), можно говорить о своеобразном платоновском «чевенгурском тексте».
Что же характеризует чевенгурский текст? Прежде всего, это шизофреническое время. В главе «Шизотипическое время» книги [Руднев, 2004] мы писали:
…при шизофрении <…> время становится одной из самых главных категорий. Но что это за время? Прежде всего, это время асемиотическое, так как при остром психозе связи с реальностью полностью или почти теряются, и все вокруг состоит из одних только означающих, при стремлении к полному уничтожению денотатов. Зато означающих очень много, и они делают, что хотят. И время при шизофрении делает, что хочет. Оно нелинейно, многослойно, прошлое перепутывается с настоящим и будущим – то есть со временем происходит примерно то же самое, что в сновидении.
Антон Кемпинский пишет:
Иногда, особенно в острых фазах болезни, наблюдается как бы временная «буря», прошлое бурно смешивается с будущим и настоящим. Больной переживает то, что было много лет назад так, как если бы это происходило сейчас; его мечтания о будущем становятся реальным настоящим; вся его жизнь – прошлая, настоящая и будущая – как бы концентрируется в одной точке (telescoping – по терминологии экзистенициальной психиатрии). <…>
Когда его спрашивают об их значении либо о дальнейшем развитии событий, обычно он не в состоянии дать ответ. Его прошлая, настоящая и будущая жизнь становится как бы мозаикой мелких, иногда очень ярко переживаемых событий, которые не связываются в единую композицию [Кемпинский, 1998: 220–221].
Соотношение линейного и циклического времени у Платонова подробно анализирует в специальных главах своей диссертации М. Дмитровская [Дмитровская, 1999]. О странности чевенгурского времени пишет Евгений Яблоков:
Удивительно ведет себя в «Чевенгуре» время. Во-первых, его динамика явно замедляется от начала к концу. <…> Ситуация в романе движется скачкообразно: быстро миновав вместе с героями первые послереволюционные годы, мы оказываемся уже в начале 1921-го: несколько недель странствований Дванова и Копенкина лежат как бы в ином по фактуре времени, главное качество которого – неоднородность, сосуществование различных эпох на одной территории. <…> Если мы попытаемся ответить на вопрос, сколько времени длится в романе история чевенгурской коммуны, то, видимо, речь должна идти о нескольких месяцах – с весны до осени; но ведь когда в Чевенгуре появляются Александр Дванов и Симон Сербинов окажется, что в «большом» мире прошло уже лет 7–8 [Яблоков, 1991а: 7–8].
Время в Чевенгуре останавливается потому, что там ждут конца света и второго пришествия. Коммунизм – это и есть второе пришествие, как определяют его герои «Чевенгура» Чепурный и Дванов. Еще более странно ведет себя в Чевенгуре пространство. Дом – это наиболее устойчивый в любой модели мира предмет. Но в Чевенгуре обычные законы не действуют: жители, чтобы жить всем вместе, кучно (о мотиве соединения см. в следующем подразделе), как ни в чем не бывало переносят дома и сады, как будто это лопата или тачка (эта невозмутимость при описании странных событий – фундаментальная черта психотического дискурса (см. главу «Психотический дискурс» в книге [Руднев, 2000]). Так в рассказе Хармса «Вываливающиеся старухи» герой спокойно смотрит, как из окна дома одна за другой вываливаются старухи, потом ему это надоедает, и он равнодушно уходит.