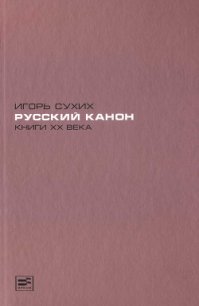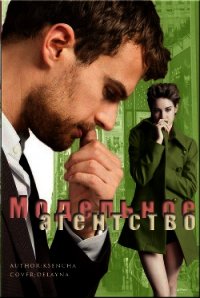Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
Акцентируя индивидуальную принадлежность, собственность жанра (моя эпопея), Пастернак превращает его в нечто иное. «Просто роман» становится большой прозой с субъективной доминантой, лирическим эпосом (дьявольская разница!), в котором общее, историческое является не предметом, а предлогом, дано в аспекте не изображения, но – оценки. Поэтому в цитированном письме Фрейденберг автор мотивирует обращение к прозе необходимостью личного, максимально искреннего высказывания, привычной формой которого (особенно для поэта) обычно считают стихи: «Я уже стар, скоро, может быть, умру и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей».
Таким образом понятый замысел книги оказывается восходящим к 1920-м годам. У него обнаруживается неожиданная структурная аналогия.
23 ноября 1927 года, прочитав первые главы «Жизни Клима Самгина», Пастернак пишет Горькому большое восторженное и в то же время аналитическое письмо, особенно выделяя «громадную 5 главу, этот силовой и тематический центр всей повести». «Характеристика империи дана в ней почти на зависть новому Леонтьеву, т. е. в таком эстетическом завершении, с такой чудовищной яркостью, захватывающе размещенной в отдалении времен и мест, что образ непреодолимо кажется величественным, а с тем и прекрасным. Но чем более у него этой неизбежной видимости, тем скорее он тут же, на твоих глазах, каждой строчкой своей превращается в зрелище жути, мотивированного трагизма и заслуженной обреченности».
Тот имперский мир, несмотря на всю свою величественную красоту, был обречен. Далее Пастернак отмечает парадоксальность авторской точки зрения: «Странно сознавать, что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то новая Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с натуры изображалась Вами и писателями близкой Вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этот смысле эпоха еще никем не затрагивалась».
Люди, пережившие революцию, оказываются первыми историками и археологами ушедшей на дно Атлантиды. Их задача сложна, едва ли не уникальна. «По какому-то странному чутью я не столько искал прочитать “Самгина”, сколько увидеть его и в него вглядеться. Потому что я знал, что пустующее зияние еще не заселенного исторического фона с первого раза может быть только забросано движущейся краской, или, по крайней мере, так его занятие (оккупация) воспринимается современниками. Пока его необитаемое пространство не запружено толпящимися подробностями, ни о какой линейной фабуле не может быть речи, потому что этой нити пока еще не на что лечь. Только такая запись со многих концов разом и побеждает навязчивую точку зрения эпохи как единого и обширного воспоминания еще блуждающего и стучащегося в головы ко всем, еще ни разу не примкнутого к вымыслу». И еще одно свойство горьковской книги отмечает Пастернак, называя его «поэтической подоплекой прозы».
Через два года в письме П. Н. Медведеву (6 ноября 1929 г.) Пастернак посмотрит сквозь призму тех же категорий (личная фабула, историческое повествование, условия решения художественной задачи) на причины неудачи своего «романа в стихах» «Спекторский». «Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдельных лицах, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте… Начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в теченье лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы – а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно писать в полную краску, только когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состояньи роста».
Идея о зависимости романной фабулы от общественных изменений могла быть подхвачена Пастернаком у Мандельштама («Конец романа»), хотя, с другой стороны, в вульгарном варианте она стала обычной для марксистского литературоведения 1920-х годов.
Отечественная война стала очередным рубежом русской истории. Уже не только дореволюционные, но и первые советские десятилетия превращаются в Атлантиду, в блуждающее в головах современников коллективное воспоминание-фантом, примкнутое к ложным фабулам. В этой ситуации, ощущая живой рост общих нравственных сил («Приближается победа. Наступает момент оживления жизни. Историческая эпоха, какой свет не видал! Срок приспел!»), совпадающий с личным мироощущением («Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее… В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое»), Пастернак и начинает свой роман – «запись со всех концов разом», борьбу с навязчивой (и навязанной) точкой зрения эпохи на эпоху минувшую.
Любопытны и еще некоторые совпадения пастернаковского анализа и оценки горьковской книги в конце 1920-х годов и собственного замысла четверть века спустя.
Противопоставляя «Самгина» «Делу Артамоновых», Пастернак оценивает новое произведение выше: «Высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная». А закончив свой роман, автор предупредит К. Паустовского, предложившего от имени редколлегии напечатать «Доктора Живаго» в альманахе «Литературная Москва»: «Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано».
Предсказывая «аберрацию» восприятия современников, обремененных их собственной «памятной причастностью» эпохе, Пастернак апеллирует к «потомству», «следующему поколению», которое увидит в книге «замкнутую самоцель, пространственный корень повествования». На одном из предварительных чтений «Живаго» очень важным для самого Пастернака окажется мнение четырнадцатилетнего сына: «И вот, для меня было не безразлично, как отнесется современный пионер и завтрашний комсомолец, воспитанный на другом понимании некоторых хронологических полос и на другой манере описания природы, действительности и всего на свете, к передаче всего этого у меня. Для меня было большой радостью, что на мой вопрос, понравилось ли ему, он, преодолевая свою обычную застенчивость и густо покраснев, сказал: “Очень, очень!”» (Н. А. Табидзе, 3 июня 1952 г.).
Как известно, подзаголовок незаконченной «Жизни Клима Самгина» – «сорок лет».
Такое соотношение персонального заглавия и хроникального подзаголовка долгое время сохранялось и у Пастернака. Подзаголовок «картины полувекового обихода» исчез лишь в 1955 году, на последней стадии работы.
Представление о хронологическом охвате «моей эпопеи» сохранялось все время работы над ней. «Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10—12 главах, не больше» (Н. Я. Мандельштам, 26 января 1946 г.). – «А с июля месяца я начал писать роман в прозе “Мальчики и девочки”, который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 г.» (О. М. Фрейденберг, 5 октября 1946 г.). – «Время, обнимаемое романом, 1903—1945 гг.» (З. Ф. Руофф, 16 марта 1947 г.). – «Наверное, эта первая книга написана и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го» (О. М. Фрейденберг, середина октября 1948 г.).
Зато, в зависимости от адресатов и обстоятельств, постоянно менялся ее культурный контекст, система литературных ориентиров.
В одном из первых свидетельств, письме сестрам (декабрь 1945 г.), еще без упоминания о начатой работе, Пастернак утверждает, что последними творческими субъектами после символистов «остались Рильки и Прусты». «Я хотел бы, чтобы во мне сказалось все, что у меня есть от их породы, чтобы как их продолженье я бы заполнил образовавшийся после них двадцатилетний прорыв и договорил недосказанное и устранил бы недомолвки. А главное, я хотел бы, как сделали бы они, если бы они были мною, т. е. немного реалистичнее, но именно от этого общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор».