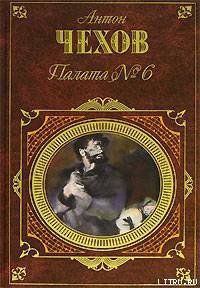А.П.Чехов в воспоминаниях современников - Сборник Сборник (прочитать книгу .txt) 📗
Подлинник этого письма со всеми автографами я передал в свое время в Чеховскую комнату при Публичной библиотеке - ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина, - где он теперь и находится{486}.
В Московском Художественном театре пьеса Чехова "Дядя Ваня" имела колоссальный успех. Никто, однако, не мог воссоздать рассказами ни сценических образов, ни передать автору действительное впечатление от исполнения и постановки пьесы. Надо было показать этот спектакль ему самому, чтобы он мог оценить и /487/ почувствовать его. И Художественный театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать "Дядю Ваню" своему любимому писателю.
Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля{487}, так как жил в то время в Ялте, но вскоре слышал от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромности и не выражал этого открыто.
После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, где съехалось и жило в то время немало писателей. Помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец.
На другой же день по приезде группы в городском саду был устроен товарищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом крепкого сближения театра с Горьким, у которого созревал тогда план пьесы "На дне". Осенью пьеса была закончена и прочитана на "Среде", а затем поставлена в Художественном театре{487}. Сначала она называлась "На дне жизни" и под этим заглавием была напечатана за границей.
Чехов и Художественный театр всегда были близки друг другу. С самого возникновения театра и до смерти писателя эти близость и дружба росли, а взаимное понимание и уважение крепли. Как драматург Чехов был угадан, понят и разъяснен только одним Художественным театром. Его пьесы "Иванов" и прообраз "Дяди Вани" - "Леший" ставились в свое время на сценах Москвы: у Корша, у Абрамовой, но холодок среди зрителей и недоумение сопровождали эти постановки, а после знаменитого петербургского провала "Чайки" участь Чехова-драматурга, казалось, была решена бесповоротно{487}.
Но Художественный театр в 1898 году, в первый же год своей жизни, решил показать - по-своему - "Чайку". Он твердо верил в то новое, что давала никем не понятая чеховская пьеса, верил и в то, что хотел сказать этой пьесой сам автор. Победа была полная{487}, потрясающая, восторженная.
Весь Чехов как драматург был показан и раскрыт Художественным театром: "Чайка", "Дядя Ваня", "Иванов", "Три сестры", "Вишневый сад" и даже /488/ инсценировки некоторых рассказов, в виде миниатюр, ставились на сцене МХТ{488}.
Известно, что Л.Н.Толстой, любя и уважая А.П.Чехова как писателя и как человека, к пьесам его относился отрицательно, хотя и приходил их смотреть.
В 1900 году, 24 января, Лев Николаевич видел в Художественном театре пьесу А.П.Чехова "Дядя Ваня". По окончании спектакля он был за кулисами, где расписался в книге почетных посетителей, и, между прочим, обратясь к артисту Вишневскому, сказал ему шутя:
- Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем пристаете к чужой жене, - завели бы себе свою скотницу.
Случай этот не выдуман{488}, а удостоверен театром. Очень характерно здесь то, что Л.Н. даже в шутке остался верен своим тогдашним взглядам и не зря употребил слово "скотница".
Как относился Художественный театр к творчеству Чехова, ясно видно из речи Станиславского на десятилетнем юбилее театра. Он говорил: "От Чехова из Ялты прилетела к нам Чайка; она принесла нам счастье и указала новые пути в нашем искусстве". А в речи Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премьере "Вишневого сада" в 1904 году, это отношение высказано еще более определенно.
Как сейчас вижу Антона Павловича, смущенно стоящего на сцене МХТ при открытом занавесе под гром и бурю аплодисментов на премьере его последней пьесы. Ему подносят цветы, венки, адреса, говорят речи, а он смущенно молчит и не знает, куда глядеть. А Немирович-Данченко говорит ему от лица всего МХТ:
- Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: "Это - мой театр".
Никаких сомнений нет и в том, как относился сам Чехов к Художественному театру. В одном из его писем значится: "Художественный театр - это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре"{488}.
Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире никого не было, кроме /489/ прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали без устали.
Я уже знал, что Чехов очень болен, - вернее, очень плох, - и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.
Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом - до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.
А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
- Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем "умирать", которое не хотелось бы сейчас повторить.
- Умирать еду, - настоятельно говорил он. - Поклонитесь от меня товарищам вашим по "Среде". Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.
Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.
- А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.
Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного - чеховского сердца.
На другой день он уехал.
А через месяц, в Баденвейлере, в ночь на 2 июля, когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор велел дать больному шампанского. Но ведь больной был /490/ сам доктор и понимал значение этой меры. Он сел и как-то значительно и громко сказал доктору по-немецки: "Ich sterbe"*. Потом взял бокал, повернулся лицом к жене и с улыбкой проговорил последние слова в жизни:
______________
* Я умираю (нем.).
- Давно я не пил шампанского...
По словам жены, он покойно выпил глотками все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навеки. Наступившую жуткую тишину ночи нарушала только ворвавшаяся в окно большая черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.
Когда ушел доктор, среди полной тишины и духоты летней ночи вдруг со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского...
Начинало светать. Вскоре запели утренние птицы...
А затем - торжественные проводы иностранцев и казенное принятие на границе гроба русскими властями, незнакомыми даже с именем Чехова... Непростительное, грубое и дикое назначение "вагона для устриц"{490}, в котором с этой самой надписью, варварской для настоящего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, почти без всякой встречи благодаря перепутанным телеграммам. И только на другой день, уже в Москве, огромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную площадь, переполненные депутациями с венками и цветами станционные платформы внушительно подчеркнули значительность потери.