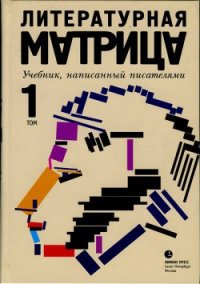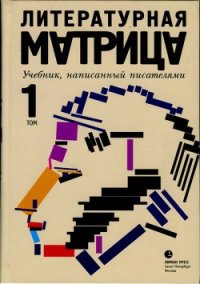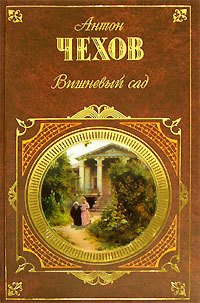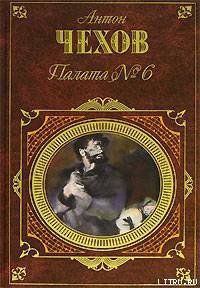Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - Петрушевская Людмила Стефановна (бесплатные версии книг .TXT) 📗
«Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона».
Сегодня я лучше понимаю раздражение Бунина: «нет слова в простоте», «очень трудно читать от этого с вывертами языка со множеством местных слов». Баз, прозелень, изломистая — эпигоны Шолохова окончательно набили оскомину такого рода «народным языком», на котором народ давным-давно не говорит, но у их патриарха это воспринимается как еще один знак канувшего мира. Порядок слов в предложении тоже придает повествованию величавость, если ею не злоупотреблять. «Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из — под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман», — всюду подлежащее ставится в конце.
Шолохов начинает возведение своей вселенной с неспешностью истинного Создателя, не пренебрегающего ни единой мелочью. С раннего угра начинается возня по хозяйству — первым отрывается ото сна Пантелей Прокофьевич, застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, выходит на крыльцо. «Гришка, рыбалить поедешь?» — так и разворачивается рыбная ловля в духе крепкого этнографического реализма, покуда не прозвенит первый, тоже как будто еще незначительный звонок: «Ты, Григорий, вот что… Примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой…»
Затем опять идет крепкий реалистический рассказ о том, о сем, появляются-исчезают разные любопытные люди, из которых ни один впоследствии не пропадет зря — будет работать или на развитие сюжета, или на расширение мироздания. И снова контакт будущих влюбленных: «В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. (…) Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны», — да, это не первый бал Наташи Ростовой…
Влюбленные видят друг друга за самыми что ни на есть прозаическими делами: «Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение». Толстой, постоянно подчеркивавший земное начало в своей любимой героине, никогда все же не доходил до линялых подмышек…
И Анну Каренину не изображал преданной до приниженности женой: «Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза». Но любовь пробивается сквозь все — вот и появляется тот самый дурнопьян…
А потом и последнее телесное сближение: «Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу», — для заядлого охотника Шолохова сходство с миром зверей отнюдь не снижение. «Всякий… зверь… красивый», — с трудом, задыхаясь, выговорил он незадолго до смерти.
Но и, красивый, двадцатидвухлетний, принимаясь за главное дело своей жизни, он уже не боялся показать своих героев ни звероватыми, ни вульгарными: «Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь? Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!» — такую вот отповедь дает казацкая Джульетта отцу своего возлюбленного, вздумавшего почитать ей мораль.
«За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!»
Но казацкому Ромео история, похоже, прискучила…
«— Гриша, колосочек мой… — Чего тебе? — Осталося девять ден… — Ишо не скоро. — Что я, Гриша, буду делать? — Я почем знаю».
Короче говоря, «ты — жена, ты и боись».
Но у Шекспира никакие Капулетти так не обращались с нарушительницами запрета: «Аксинья залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему их двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю, в золу — в ту золу, которую Аксинья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня». Кто из классических литературных красавиц представал перед публикой извалянной в золе?
Но любовь пробивается и через кровь, и через грязь: «Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой».
Но и обида никуда не уходит: «Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически-крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.
— Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош… Напаскудил, как кобель, и в сторону… Все вы…»
И слышит в ответ рассудительное: «Сучка не захочет — кобель не вскочит».
Но, видя ее слезы, Григорий багровеет от стыда: «Лежачего вдарил…»
«Ксюша… сбрехнул словцо, ну, не обижайся…»
Певцу этой поразительной любви незачем что-то скрывать, приукрашивать — любовь все равно выжжет любую грязь, — к концу книги мы ее уже с трудом припоминаем.
Но там, где любви нет, плоть, физиология становится отвратительной: «Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым, — так пахнут старушечьи затасканные канунницы [395]», — нечего сказать, милые чувства пробуждает в Григории свадьба с нелюбимой женой.
Не спасает даже ее красота: «Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей».
Роковая, без малейшей иронии, любовь пробьется сквозь семейный долг, сквозь измены, сквозь войны, революции, голод, тиф… Ее действительно невозможно удержать, — ее можно только убить. Ее трудно назвать высоконравственной — она почти без жалости растаптывает прелестную Наталью, волей судьбы оказавшуюся на ее пути, и в свою защиту она может сказать только одно: «Я стихия».
На берегах этой великой реки, неудержимой, словно батюшка тихий Дон, и разворачивается история — история борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть между многокрасочным и сербш, раздрызганным и сплоченным, колеблющимся и неколебимым. Там, где появляются большевики, не только язык тускнеет — тускнеет даже пейзаж. Кстати сказать, и руководство военными действиями предстает вторжением серости, вторжением чертежа в живописное полотно: «Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов получил из штабарма приказ перебросить в район Свинюхи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но, несмотря на это, один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону и, только сделав переход в двенадцать верст по линии фронта, получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й пластунский».
395
Канунница — в говоре донских казаков: деревянная чаша, которую наполняют медом и ставят на канун, то есть столик перед распятием, зажигая рядом с ней свечи за упокой души близких. — Прим. ред.