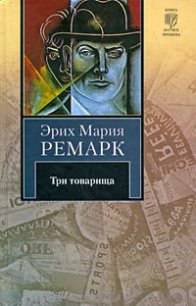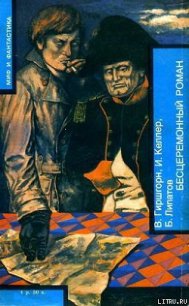Тот самый ГИТИС - Смольяков Александр (читаем книги онлайн TXT) 📗
А я тогда была маменькиной и папенькиной дочкой. Плакала, мыкалась, рассказывала всем, что не виновата. Мой всегдашний друг — Нея Зоркая — достала где-то письмо знаменитого ученого Кедрова, которого тоже в чем-то обвиняли. Он очень удачно написал письмо: с одной стороны, он вроде как виноват, но, с другой стороны, он хотел, как лучше. Нея велела мне написать также. Кстати, все писали «под Кедрова». Я написала, что хотела, как лучше… но больше не буду.
Потом было заседание в Союзе писателей. Я пришла на это собрание в «дубовом» зале, где сидели писатели, которые исключали из союза космополитов, евреев и еще Бог знает кого. Фадеев делал доклад. Он спускался по лестнице, там была такая дубовая винтовая лестница, нес огромную кипу книг. Еще на лестнице сказал: «Юзовский, встаньте! С вами будут говорить сейчас всерьез!» Маленький Юзовский сказал: «Я уже стою. Давно стою». И вдруг погас свет. Каким-то образом погас свет в Союзе писателей перед докладом Фадеева, представляете? В темноте зажгли свечи, и он со свечой в руках дальше спускался по лестнице. Его тень отбрасывалась огромная, все стояли в полумраке со свечами, Фадеев, спускаясь, говорил: «Великий Белинский поддержал маленького писателя Буткова и отметил его! А вы загубили русскую литературу!» Я выслушала все это. А потом я многие годы работала с Фадеевым. Это отдельная история, как он кончал самоубийством, как воспринял доклад Хрущева о Сталине...
Мне предложили бросить аспирантуру. А я уже читала лекции об Островском. Но мне сказали, что еврейке нельзя читать историю русского театра. Отослали в Ташкент на три года по распределению. Мои подружки поступили в аспирантуру и остались здесь. Со мной вместе уехал и мой будущий муж, который долго за мной ухаживал. Бросил режиссуру, защиту диплома и уехал со мной. Я в первый раз открыла дверь среднеазиатского театрального института. Вошла в класс, где сидел Леня Броневой и еще многие другие, оставшиеся там с войны. Хотя я и получила какую-то практику в ГИТИСе, но все, что знала, рассказала ровно за пятнадцать минут. Всю историю мирового театра. И, глядя прямо им в глаза, сказала: «Больше я ничего не знаю». Леня Броневой сказал: «Вы знаете что? Вы походите по коридору. Успокойтесь. Мы подождем». Я ходила по коридору, потом возвращалась опять в класс. Говорила: «А я все равно ничего не знаю».
Прожила я там год. Выработала в себе все те качества, которые считаю очень достойными: «Если я решила это сделать, то я это сделаю». Нет такого моего желания, которое я бы не выполнила. Другое дело — не получилось, провалилось, оказалось не нужно. Но, если я сказала, что я буду в аспирантуре, то я буду в аспирантуре! В Ташкенте сдавала кандидатский минимум. Находила преподавателей МГУ. Там была роскошная диаспора всяких ссыльных и высыльных. Там были М. Григорьев, А. Эфрос, профессор МГУ Н. Звягинцев. По вечерам они звали меня к себе. Мы с мужем приходили в интеллигентные дома и слушали рассказы о «Серебряном веке». Тогда я начала задумываться: «Почему же первыми пострадали театральные критики?» И сделала вывод, что театр — самое огнеопасное дело для власти. Потому что это модель мира, которую они либо хотят устроить, либо хотят разрушить. Потому что люди все вместе это видят, не отдельно читают, не отдельно слышат, а все вместе заражены одним настроением. И я увидела, что если что и запрещали в России, то пьесы. «Записки охотника» проходят без цензуры, хотя они резко антикрепостнические. А пьесы Сухово-Кобылина, Грибоедова, того же Тургенева — запрещали.
Не проза, а драма идет в запрет первой. Если что-нибудь революционное начинается в стране, играют «Маскарад» Лермонтова, последний спектакль старого мира. На фронтоне Александринки «Маскарад» — и февральская революция. На фронтоне Малого театра «Маскарад» — и Хрущева снимают в этот день. Все начинается с театра. Если в Польше что-нибудь затевается, то обязательно играют «Дзяды» Мицкевича.
Начали с театральных критиков, потому что все они были завлитами в театрах. Я просто знала биографии этих людей. Борщаговский, Штайн, Бояджиев, Малюгин — завлиты. Они первыми читали пьесы, и они их не разрешали — пьесы Софронова, Сурова, Мдивани. Вот здесь была самая опасная минута. Надо было показать модель мира так, как писал Ромашов в пьесе «Великая сила», где восхвалялся Сталин.
В общем, я вернулась в аспирантуру. Мне сказали, что никакого русского театра мне не видать. «А вот места есть в разделе „Советский театр“. Что-то никто не хочет им заниматься. Не хватает специалистов». И я стала писать какую-то глупую кандидатскую диссертацию: «Советская комедия в Малом театре». Хоть как-то мне надо было зацепиться за Малый театр. Защитилась. Стала молодым кандидатом наук. И куда же мне идти работать?
Как-то я пришла в Союз писателей брать у кого-то интервью, увидел меня Борис Андреевич Лавренев: «Ну, чего ты все ходишь с таким унылым лицом?» — «Я молодой кандидат наук, и ни фига у меня не получается». — «Знаешь, мне как раз нужен секретарь комиссии по драматургии. А я председатель этой комиссии».
Это было в 1952 году. Там я увидела всех, кого еще могла увидеть. Билль-Белоцерковского, который рассказывал, как он писал письмо Сталину. Знаменитое письмо и еще более знаменитый ответ Сталина по поводу Булгакова. С Борисом Андреевичем Лавреневым подружилась навсегда. Замечательный человек, остроумнейший, талантливейший, «погибший» из-за своей пьесы «Разлом». Поскольку он был великим прозаиком: «Сорок первый», «Гравюра на дереве» — это великие произведения. Драматическая судьба. Я еще застала Сейфуллину с ее «Виринеей», видела Тренева, Всеволода Вишневского.
— Социальные перемены воспринимались как нечто судьбоносное — смерть Сталина, доклад Хрущева, оттепель? Или после разгрома космополитов они не были потрясением?
— Я уже говорила, что очень изменилась, как видно. Стала бояться прямых высказываний, ярких участий, коллективных подписей, всего, что потом так звучало. Были драмы личные с моими друзьями. Кого-то исключали, а я не смогла быстро и толково принять свои меры… Ничего бы я не изменила, но все-таки… На мне словно лежала гиря отчуждения, остранения. Известие о смерти Сталина воспринималось с ощущением: рушится мир. Кто-то рассказывает, как радовались тому, что умер Сталин. Я этого не видела. Наоборот, все думали: «А что будет? А как дальше?»
Моя мама была «убийцей в белом халате». Она попала как раз в ту ситуацию. Я с «космополитизмом», а она с медициной. К ней приходили больные, кричали: «Вы отравительница!» — и кидали ей рецепты. Она была прекрасным детским врачом. «Оттепель» принесла, конечно, надежду. Но в первые ряды тогдашней критики вышли другие: Инна Соловьева, Вера Шитова, иные имена. Они пытались осмыслить происходящее, видели ростки нового. Меня с ними не было. Я как-то осталась в тени. Педагог, литературовед, любимый Гоголь… Я старалась отойти в сторону. Мне казалось: а вдруг завтра опять… а вдруг все вернется…
— Как вы ощутили перестройку?
— Двойственно. Не могу сказать, чтоб меня это безумно радовало, Журнал «Огонек» той поры, Коротич, Бурлацкий… По поводу которых были восторги… У меня не было восторгов. Мы снова повторили все ту же громадную ошибку. Мы лишили себя истории. Мы разрушили все статуи, а это история страны. Поэтому у меня было двойственное ощущение. Мне казалось, что все слишком громко, что многое сделано для себя лично. Потом Коротич оказался в Париже, а Бурлацкий — в каком-нибудь Лондоне, а все остальные лидеры перестройки, скажем, в Германии… Они приезжают и рассказывают мне, как надо было. «А почему вы не вышли тогда на площадь?» Я отвечаю: «Минуточку, а вы где были? В Мюнхене?»
Вот эта двойственность самой демократической первой волны, которая вся куда-то делась, мило и талантливо разъехалась и сегодня приезжает зарабатывать сюда деньги, — внушала мне тревогу.
— Вы пришли в ГИТИС преподавать…
— Да я, собственно, никуда не уходила. Сначала аспирантская практика, читала спецкурс об Островском. Потом я была в течение всей аспирантуры ответственным секретарем театроведческой кафедры. Писала протоколы. Много позже, где-то в 70-е годы, ко мне обратились, что хорошо бы, если бы я взяла заочный курс на театроведческом. Мы еще знаимались в подвале, где-то в школе в Гранатном переулке напротив Дома архитектора. В течение трех лет я вела этот семинар. Потом был длинный перерыв. Больше меня как-то не звали, и мне было некогда. Потом меня уже позвал Борис Любимов. Он окончил ГИТИС шикарным студентом Маркова… Но что-то, вероятно, у него было с дисциплиной. И Павел Александрович обратился ко мне в Литературный институт с просьбой взять Бориса аспирантом. Борис пришел с темой «Достоевский на сцене». Потом мы встретились, когда он стал уже завкафедрой.