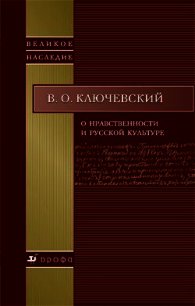Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (лучшие книги читать онлайн TXT) 📗
Для критической речи (стирающей критика и его имя) предметом поисков является знак того, что она вступила в пространство литературы, поскольку «это пространство и это движение исчезновения уже принадлежат реальности литературного произведения и находятся в действии внутри него» (с. 12), и это лучший способ поддерживать связь с «присущей литературе способностью созидать самое себя, при этом постоянно сохраняя свое отсутствие» (с. 13). С этого момента «критическая речь не является больше внешним суждением, которое назначает цену литературному произведению, и постфактум высказывается о его ценности. Она становится неотделимой от его внутреннего движения, которым произведение возвращается к самому себе, это его поиск самого себя и опыт собственной возможности» (с. 13). Таким образом, критика, замечает Бланшо, близка по смыслу определению, которое ей давал Кант: она есть вопрошание об условиях возможности, касается ли это научного опыта, как у немецкого философа, или же опыта литературы.
Во внутреннем движении произведения критическая речь не стремится больше к оценке согласно системе внешних критериев, но «испытывает его как нечто такое, что не может оцениваться» (с. 14), что должно освободить мышление от всякой идеи ценности.
Напоминая и резюмируя таким образом основную идею Бланшо, я хочу подчеркнуть, что критический дискурс, как его развивает Бланшо, — это не комментарий, но скорее разъяснение опыта, к которому нас побуждает и принуждает сам текст. И хотя работа о Лотреамоне очень похожа на объяснение текста, и своей пространностью, и своим непрерывным и почти прямолинейным развитием, зато длинный комментарий к «Мальдорору», составляющий исключение по своей форме, хорошо подходит под заглавие, которое ему дает сам Бланшо: «Опыт Лотреамона». Именно опыт взывает к медленному, терпеливому разворачиванию текста, требует углубления в динамику поэмы-романа, а не стремления преподать на его основе некий урок.
Выражение «опыт Лотреамона», разумеется, нужно понимать в двояком смысле — в форме родительного падежа одновременно субъектного и объектного. Действительно, с одной стороны, это опыт, предпринятый и успешно осуществленный писателем (или произведение, чье имя становится именем автора, тем самым упраздняя последнего), по крайней мере проведенный как можно дальше. Но, с другой стороны, это также и наш опыт, опыт, который мы получаем как читатели Лотреамона. Это выражение, служащее заглавием к тексту 1947 года, уже знакомо внимательному читателю эссеистики Мориса Бланшо. Уже в первом сборнике «Неверные шаги» 1943 года оно фигурирует в заглавии седьмой главы, носящей название «Опыт Пруста», главы, которая непосредственно и намеренно следует — я к этому обязательно вернусь — за главой «Внутренний опыт», посвященной, естественно, одноименной книге Жоржа Батая. Кристоф Бидан дает ценное пояснение, что эти две статьи сперва появились 5 и 12 мая 1943 года в журнале, и Бланшо решил перенести их в начало книги, — хотя это были самые поздние его статьи, — как будто бы затем, чтобы подчеркнуть их первостепенную важность [604]. В 1947 году одна из глав сборника «Отдано огню» получает название «Жид и литература опыта» и может быть прочитана уже в свете тех размышлений, которые Бланшо посвятил понятию внутреннего опыта, следуя по стопам Батая.
Хотя частое использование термина «опыт» — семантический или концептуальный анализ которого нам еще предстоит проделать — кажется отличительной чертой критического письма именно 40-х годов, этот термин все же не исчезает и впоследствии. В «Грядущей книге» то же самое название используется для нового очерка о Прусте: «Опыт Пруста». В «Пространстве литературы» вся седьмая глава целиком посвящается «Литературе и опыту начала». И наконец, если ограничиться только заголовками, не претендуя на более методический перечень, добавлю еще, что и в «Бесконечной беседе» вся вторая часть, а в этой части вся двойная глава IX называется «Опыт-предел» [605] — тем самым дается понять, что, хотя речь и идет о возвращении к произведению Батая, о нескончаемом размышлении над движением этого произведения, но одного этого собственного имени недостаточно, что никакого собственного имени не может быть достаточно или что любое собственное имя необходимо взывает к своему стиранию — и это подтверждается тем фактом, что Бланшо никогда не говорит об «опыте Батая»… Понятно, что слово «опыт» еще раз встречается в «Неописуемом сообществе», почти с необходимостью в форме цитаты «внутренний опыт» — словно отзываясь на статью 1943 года и образуя с нею непостижимое круговое движение.
Из сказанного ясна обширность корпуса текстов, который открывается передо мной, который бы мог в некотором смысле охватить собой все критическое письмо Бланшо и лишь немногие силовые линии которого мне бы в лучшем случае удалось выделить.
В «Пространстве литературы» Бланшо приводит следующий фрагмент из письма Рильке: «Произведения искусства всегда оказываются плодом пережитой опасности, некого опыта, доведенного до такой точки, когда человек уже не может продолжать». И тут же сам добавляет: «Произведение искусства сопряжено с риском, оно — утверждение предельного опыта» [606]. Таким образом, его понимание опыта точно отвечает этимологии этого слова, в том виде, в каком ее приводит Филипп Лаку-Лабарт, поскольку ex-periri [607] по-латыни отсылает к periculum, что значит опасность, которой человек подвергается, которую он переживает или преодолевает [608].
Таким образом, этот риск должен быть пережит как личная и индивидуальная угроза, даже если он ведет туда, где «человек уже не может продолжать», — фраза, которую нужно понимать сразу в двух смыслах: одновременно как победу и успех искусства, но также и как признание его поражения. Парадоксальным образом этот опыт, который есть испытание стиранием, должен быть пережит во всей своей интенсивности. В нем нет ничего теоретического или абстрактного. И критика, как начиная с 1943 года ее понимает Бланшо, состоит в размышлении над материалами и документами, которые свидетельствуют об этом испытании. Кристоф Бидан справедливо замечает: «Бланшо комментирует больше опыт, который предшествует и сопутствует произведению, чем само произведение. Именно в точке пересечения жизни и творчества коренится его интерес к биографическим сведениям. Но интересна ли ему биография как таковая? Да, в той мере, в какой это биография „гения“ (то есть генезиса, создания произведения)» [609].
Не следует анахронически проецировать на Бланшо структуралистский запрет на автора, наоборот, нужно видеть, насколько он внимателен к пути писателя, ко всем следам (переписка, дневник, случаи из жизни, свидетельства) его поиска, в процессе которого писатель сталкивается с произведением как препятствием, требующим от него особых условий жизни. Именно по причине беспримерной верности требованиям литературы Кафка не может решиться на женитьбу, а Сад обретает в тюрьме место, где парадоксально осуществляется его писательская свобода. Но хотя изучение биографии и играет важную роль в приближении к опыту, все же, очевидно, совсем не для причинно-следственного объяснения его. Критическая речь скорее занята рассмотрением всевозможных путей перехода от «Я» к «Он» — перехода, в котором Бланшо и видит доступ к литературе. Такое превращение субъекта в нейтральное местоимение — вероятно, и есть то особое испытание, которое таит в себе письмо, которое каждый писатель должен воспроизводить самостоятельно, передавая ему на время и навсегда свое имя, давая этому процессу имя, которое он тут же стирает.
Этот опыт, стало быть, парадоксальным и неразрывным образом остается одновременно и личным, и безличным. Такова его фундаментальная двусмысленность — двусмысленность, которая всегда присутствует у Бланшо и которая определяет литературу (лишая ее всякой стабильной сущности).