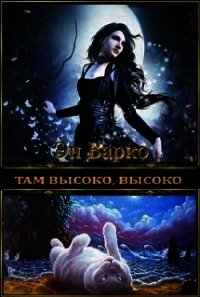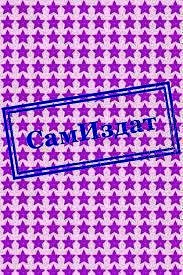Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно TXT) 📗
Вот почему живые образы героев Достоевского сильнее олицетворяемой ими идеи.
Пусть читатель оглянется на пройденный им путь. Теперь он знает, где укрывался единственный виновник убийства Федора Павловича — чёрт — со своим секретом. Он укрылся в «Критике чистого разума», в мире четырехглавых горгон-антиномий, и жил там под именем Антитеза, и оттуда выходил на свет под личиной «науки» — гордого ассасина3, чуждого морали, который провозглашает: «Все позволено, и шабаш!»
Это она, «наука», якобы убила старика Карамазова. Это атеистический, свободный ум — ум философии, ум Ивана — убил старика Карамазова. Вот он — символический чёрт-убийца! У Алеши «ум не чёрт съел», высказался как-то покойный Федор Павлович. Очевидно, у Ивана его ум чёрт съел — теоретическая философия, «наука», съела его ум, доведя его до белой горячки.
Теперь читатель разоблачил единственного виновника убийства Федора Павловича Карамазова — символического чёрта, из-за которого старший сын старика Карамазова, Митя, пошел на каторгу, средний сын, Иван, сошел с ума, а предполагаемый побочный сын, Смердяков, повесился. И этого виновника убийства — чёрта-«науку» — поставил Достоевский перед судом читателей в романе «Братья Карамазовы», отнюдь не подразумевая под именем «наука» знания вообще.
Не Митя, не Иван, не Смердяков виновники убийства, а чёрт, ум, диалектический герой Кантовых антиномий, — вот кто виновник. И совесть, рыцарь-страха-и-упрека, вооруженная единственным аргументом credo, quia absurdum est, победила героя, вогнав в него безумие, вогнав его в безумие.
Засекреченный «секрет чёрта» читателем рассекречен.
Иной читатель, пожалуй, скажет: «Надо быть Достоевским, чтобы додуматься до такой утонченно-жестокой четырехглавой горгоны, живущей не в мифологическом аду, а в чистом разуме кенигсбергского философа, которая так долго могла укрывать убийцу в своем секретном убежище! И неужели только в созданном Достоевским мифе о борьбе „науки“ и „совести“ среди клокочущего хаоса мыслей сказывается смысл творчества писателя, изумившего своим гением мир, и только покоряющая мощь его художественного мастерства возносит его над мрачным и жестоким сарказмом его философии?»
Нет, суть не в безысходной путанице мировоззрений, и не в судорогах философских школ в уме героев романа, и не в отсутствии у них единого научного базиса; суть в трагедии самосознания писателя-мыслителя, попытавшегося в одном только сострадании и частных актах любви человека к человеку найти выход из того страдания ума, до самого дна которого как будто проник его взор.
Если в ад моральный, в страдания совести, уже до Достоевского глубоко заглядывали иные из мировых мыслителей, поэтов и художников, то в ад интеллектуальный, в страдания ума, до Достоевского еще никто так глубоко не заглядывал, ибо сам Достоевский переживал этот «ад ума». Этот «ад ума» был тот великий опыт, который Достоевский запечатлел и передал человечеству в своих романах-трагедиях.
Тончайший знаток всех уязвимейших мест самолюбия, он мог оценить оскорбление, как ювелир оценивает драгоценный камень. Он мог проследить позор унижения-из-унижений до той последней горечи, где цинизм отчаяния извлекает из горечи сладость: любой из его романов служит этому доказательством.
Он мог у самого высокого идеала в застенке совести вырвать самые гнусные признания и, вывернув идеал наизнанку, показать затаившееся в нем предательство от тщеславия («Бесы»). Он мог в самой гордой и героической идее открыть ее скрытую алчность интеллектуального хищника и ее кровожадные инстинкты (своеволие, пожирающее Кириллова). У него идеи дышат кровью и покрывают трупами сцену.
Он умел показать ужас физического голода (семья Мармеладовых), но он имел проницательный глаз, который увидел и весь ужас голода духовного — голода ума: его страстную жажду познания, безумную тоску по истине, ярость вихрей мысли, бешенство воображения не только поэтического, но и философского и неразрывность этого неутоленного, неутолимого танталова голода ума с моральным страданием (Иван Карамазов).
Он распознал в уме секрет тех микроскопических долей яда, из которых ум приготовляет эссенции иллюзорности для мнимого утоления этого духовного голода.
Он увидел всю гордость и все унижение, нищету и отчаяние этого ума, извивающегося в муке перед вакуумом природы, но героизму его упорной неистребимой борьбы за раскрытие ее засекреченного секрета противопоставил, из сострадания, примирение с тайной природы, как с тайной неисповедимой, — ветхий догмат веры.
Тонко вычерченная Гегелем в «Феноменологии духа» структура «несчастного сознания» предстала под писательской кистью Достоевского трагическим портретом — трагическим даже при своей скоморошьей роже.
Рядом с «Божественной комедией» Данте — адом моральным, с «Человеческой комедией» Бальзака — адом социальным, стоит многотомная «Чёртова комедия» Достоевского — ад интеллектуальный4.
Поэтому вдумчивый читатель не посетует, что герои романа «Братья Карамазовы», при размышлении над романом, представлены не в их живой объемности, как фигуры читательского — фабульного — плана, а только в интеллектуальном и отчасти моральном разрезе — так сказать, в профиль. Этого требовала тема. Иначе герои романа, как смысл или, говоря точнее, как «смыслообразы», ускользнули бы от умственного взора.
В своем безысходном бегстве из этого интеллектуального ада — «ада ума» — Достоевский и восстал на пытливый ум, воплотивший всю гордость в «науке», как на виновника страдания и пытки.
Не примиряясь с «вакуумом природы», бесстрашно принятого наукой, он попытался завесить этот «вакуум» моралью страдания и сострадания, из-за которой звучит якобы метафизический голос совести — рыцаря-страха-и-упрека.
И все же Достоевский неустанно заглядывал в великую бездну «вакуума», стоя у самого ее края, столь же жадно и упорно выпытывая у нее тайны страдающей мысли, как наука выпытывает у нее тайны материи, порой подразумевая под этим и тайны духа.
Пусть вдумчивый читатель в этом усмотрит дело мыслителя-писателя Достоевского и его значение.
И хотя сам Достоевский не мог вырваться из «ада ума», он в уста Алеши все же пытался вложить всечеловеческую надежду на грядущее — вернее, свою нежность к этой надежде.
«А дорога… дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее…»5
Пусть хотя бы этим утешится читатель.
Послесловие
Автор «Размышления читателя» не собирался рассекать Достоевского на двух Достоевских: на Достоевского с плюсом и на Достоевского с минусом. Он только хотел понять его, насколько ему это дано, и проникнуть в тайны его замыслов и в «засекреченные секреты» его творческой мысли.
В данном случае он только использовал право ученого на раскрытие тайн живого мира. К этим тайнам относится и творческий мир писателя.
Автор «Размышления» не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы стал указывать на то, как страдал Достоевский за человека, за этого гордого человека, провозгласившего себя «шефом земли» и оказавшегося, несмотря на весь свой героизм, для сердца и ума Достоевского только «пробным существом».
Автор не сказал бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, как, нестерпимо мучаясь за человека, мучил он самого себя и героев своих романов и с какой нестерпимой для сердца жалостью и в то же самое время с какой безжалостностью ума жалел Достоевский этого бедного, бесконечно униженного, несчастного, преступного и при всем том прегордого и благородного человека, благородного подчас даже в своей подлости и подлого даже в своем мятежном благородстве. Это все и без того известно читателю.
Автор не сказал. бы ничего нового о Достоевском, если бы настойчиво указывал на то, какая глубокая социальная трагедия порождает потрясающие душу страдания героев, действующих в драмах-романах Достоевского, и где искать причины, вызывающие исторически эту социальную трагедию нищеты и унижения. Но он впал бы в глубокое заблуждение и совершил бы непростительную ошибку в отношении Достоевского, если бы прошел мимо той «трагедии ума» человека, которая раскрывается в этих драмах-романах Достоевского и порождает не менее, если не более потрясающие нравственные и интеллектуальные страдания героев его романов.