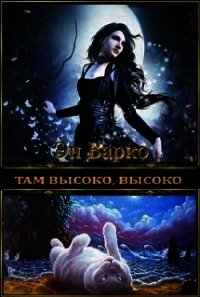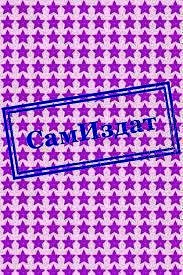Избранное. Логика мифа - Голосовкер Яков Эммануилович (книги бесплатно TXT) 📗
— Ничуть, читатель, — отвечает нам автор.
Оказывается, что оба они, Бог и чёрт, существуют, и оба необходимы для жизни, как плюс и минус. Стоило чёрту крикнуть «осанну», т. е. аннулировать самого себя (как смысл), провозгласив абсолютный плюс, как тотчас же все бы приостановились и прекратилась бы жизнь.
Но если и плюс и минус, и Бог и чёрт одновременно и выдуманы (так утверждает Иван), и существуют, и необходимы (так утверждает чёрт), значит, их выдумал разум, выдумал по необходимости, значит, они и есть все те же неустранимые идеи разума — тезис и антитезис. Значит, прав Кант, и надо только перестать раскачиваться на антиномическом коромысле, переходя, как Иван Федорович, попеременно от Бога к чёрту, и от чёрта к Богу, и разрешить антиномии, примирив их друг с другом, т. е. снять их мнимое противоречие?
Не совсем так, читатель.
По мнению Канта, оба противоречивых положения антиномий могут быть истинными в различных отношениях, а именно: все вещи чувственного мира имеют всегда лишь эмпирическое обусловленное существование (т. е. случайное: такой-то имярек родился, такой-то имярек умер). Но для всего ряда существует также не эмпирическое условие, т. е. «безусловно необходимое существо»10.
Так пытается примирить Кант материалистическую науку с завуалированной религией.
А кого такое диалектическое примирение (природа безбожна, но Бог существует!) мало удовлетворяет, для того Кант объявлял существование «необходимого существа» с теоретической точки зрения не обязательным, зато голос категорического императива, подменяющий у Канта голос совести, доказывал тому человеку, что «необходимое существо» есть: так категорический императив vice versa оказался рупором Бога.
Достоевский признал последнее — голос совести — как рупор Бога и на примере Ивана и Смердякова решил показать, что кто не принимает в расчет этого голоса, тот обречен.
Диалектическое же примирение Достоевский, в лице своего героя Ивана, тогда отклонил.
Вот почему, читатель, не в Кантовом теоретическом разрешении антиномий, не в снятии противоречия заключается суть «секрета чёрта» и искусителя.
Очевидно, не случайно автор засекретил свой последний и первый секрет и загадал загадку читателю.
«Секрет чёрта» в том, что если Бог и бессмертие есть, то чёрт должен утверждать, что их нет: иначе исчезнет жизнь.
Секрет великого инквизитора и искусителя в том, что Бога и бессмертия нет, но надо утверждать, что они есть, — иначе жизнь для миллионов будет сплошным страданием.
Однако искуситель и чёрт — это один и тот же герой, но только в разных масках — в трагической и шутовской, а один и тот же секрет их — не один и тот же: в одном случае раскрывается обратное тому, что раскрывается в другом случае.
Тогда не пополняют ли друг друга эти взаимоотрицающие положения секрета и не этим ли и смущает автор читателя? Не в том ли рассекреченный секрет, что чёрт, по замыслу автора, обречен на вечное противоречие (без его, кантовского, примирения), что для него Бог и бессмертие одновременно и существуют и не существуют?
Что это значит, читатель? У Достоевского это значит многое. Ибо это не только высказывание чёрта, но и Мити, и Зосимы, и Ивана, и… самого автора.
X. «Бездны» и «правды» романа
Не обратил ли читатель внимание на странные двоицы-диады, по поводу которых философствуют герои романа: на две бездны Мити, провозглашенные самим Митей и Ракитиным и повторенные прокурором, — как на две бездны натур карамазовских, способных созерцать их разом: на бездну над ними — бездну высших идеалов, и бездну под ними — бездну самого низменного и зловонного падения — две бездны в один и тот же момент.
Не обратил ли читатель внимание на такие же две бездны — бездны веры и неверия, созерцаемые также в один и тот же момент отцами-пустынниками? 1
Не обратил ли читатель внимание также на две правды старца Зосимы — земную правду и правду вечную, которые соприкасаются и из которых одна совершается на глазах другой?2
Или же на уже упомянутые — две правды чёрта: правду здешнюю, известную чёрту, и правду тамошнюю, ему пока не известную, причем неизвестно, которая из них будет почище3.
Две бездны и две правды у автора здесь — понятия тождественные, так как «бездна веры» и есть «правда вечная», или «тамошняя», а «бездна неверия» и есть «правда земная», или «здешняя», т. е. перед нами опять-таки уже по-иному костюмированные, давно нам знакомые герои — Тезис и Антитезис, только уже как мир трансцендентный — потусторонний и как мир имманентный — посюсторонний. Здесь уже нет никаких «или», нет выбора.
Здесь утверждается двоемирие, как существование противоположностей, одновременно и в их раздельности, и в их единстве: оба мира соприкасаются, оба созерцаемы в один и тот же момент, один мир переходит в другой.
Само собой понятно, что из такого понимания мира мог быть сделан только один вывод: мир есть осуществленное противоречие. Сделал ли его автор или кто-либо из героев романа — так сказать, под шепот из суфлерской будки автора? Такой вопрос не может не задать читатель.
И окажется, что этот вывод сделан, но сделал его не юный мыслитель Иван, а немыслитель Митя, причем сделал бессознательно, по инстинкту, так сказать, в простоте душевной, ибо «тайну мира божьего постигают, не имея ума», — как это высказал старец Зосима.
Митя, «не имея ума», постиг по инстинкту секрет антиномий, т. е. все лукавство Кантовой естественной Иллюзии разума о якобы неустранимости противоречия между тезисом и антитезисом.
В действительности, неустранимое противоречие разрешается у Канта тем, что оба противоположные решения принимаются одновременно, ибо свобода совместима с необходимостью, смерть — с бессмертием, независимое существо — с естественным законом — (Бог — с природой). Точно так же разрешается противоречие и у Мити, ибо обе бездны созерцаются одновременно, ибо идеал Мадонны совместим с идеалом содомским, насекомое сладострастья — с ангелом, гимн — с позором и вонью, подлость — с благородством, секрет — с тайной.
Поэтому Митя и заявляет о себе неоднократно — и Алеше, и следственным властям, и на суде, что хотя он и низок желаниями и низость любит, но не бесчестен, что хотя он подлец, но не вор и даже благороден. Поэтому Митя умеет и ненавидя любить («Я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!» — говорит он Кате4; впрочем, и у Кати «любовь походила не на любовь, а на мщение»5). Поэтому Митя хотя и идет за чёртом, но одновременно он восклицает: «Я и твой сын, господи!»6.
Вот почему даже Ракитин, а за ним и прокурор, характеризуя Митю, заявили, что «ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства, <…> им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две бездны, две бездны <…> в один и тот же момент»7.
Для Ракитина, олицетворенного антитезиса, единовременное принятие тезиса и антитезиса в один и тот же момент есть «неестественная смесь». Такое принятие ему непонятно, как непонятны были Мефистофелю «две души» Фауста.
Для Мити же это принятие не требует вовсе понимания. Понимать надо Ивану, понимать надо чёрту, ибо пока Иван-чёрт не сможет понять, зачем необходим «минус», до тех пор для него будут существовать две несовместимые правды и он будет стоять за антитезис.
Мите же понимать не надо: для него единовременное принятие двух бездн есть нечто естественное, нечто такое, что Митя чувствует, что в самом Мите сидит, что сам Митя есть.
В нем, как и во всем мире, сочетаются воедино и единовременно оба начала в одном и том же акте: «вонь и позор», «свет и радость». «Свет и радость!» — это тот же «гимн». «И в самом этом позоре вдруг начинается гимн!» — восклицает восторженно Митя.
Мир и человек — это какое-то сосуществование, и переход друг в друга, и единство противоположностей: «Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут»8.