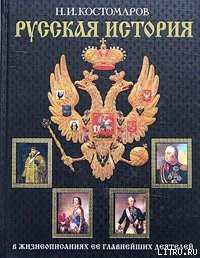История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый отдел - Костомаров Николай Иванович (е книги .TXT) 📗
Инок Савва не поехал в Москву, одолеваемый старостью: афонский игумен предложил московскому государю другого ученого грека, по имени Максим, из той же Ватопедской обители. Этот монах по-славянски не знал, но при своей способности к языкам мог скоро выучиться. С ним вместе отправились монах Неофит и Лаврентий болгарин. Они примкнули к другим духовным, которые ехали в Москву за милостынею, и, пробывши несколько времени, по неизвестной нам причине, в Крыму, прибыли в Москву в 1518 году.
Максим был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В молодости он отправился учиться в Италию, пробыл там более десяти лет, учился во Флоренции и Венеции, слушал знаменитого филолога, своего соотечественника Ласкариса, был близок со многими учеными и в том числе с Альдом Мануччи, типографом и издателем древних классиков, который образовал около себя кружок ученых и образованных людей. Молодой грек увлекался на первых порах тогдашним просвещением, но впоследствии начал к нему охладевать. Оно не могло наполнить его честной, сердечной натуры, склонной к идеализму и с младенчества пропитанной духом отечественного православия. Европа тогда искала для себя обновления в просвещении антического мира. Все, что только интересовалось умственною деятельностью, устремлялось к изучению этого мира и прилеплялось к нему всею душою; но увлечение классическою древностью скоро дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима; языческие философы стали выше отцов церкви; распространилось легкомысленное модное неверие и кощунство; знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодною для черни, которую, ради выгод, следует держать в заблуждении. Из подражания древнему образу жизни стали предаваться грязному разврату; эгоизм, бессердечие к ближнему – самые неудержимые пороки и злодеяния находили для себя оправдание в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел от всей души такое направление просвещения. Умственные успехи Италии не выкупали для него зловредного влияния древности на общественную нравственность. Искусство, при всем совершенстве техники, служило чувственности и снабжало самые церкви соблазнительными картинами. Философия приводила только к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое, из белого черное; наука, мало опираясь на положительных знаниях природы, при всем вольномыслии в отношении религии, не отрешалась от грубейших суеверий; астрология со всеми своими нелепостями, облеченная в научную форму, была самою модною наукою века и возбуждала к себе веру и уважение ученых людей того времени. Понятно, что вся сфера тогдашней образованности стала наконец душною и смрадною для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучше люди последних веков Рима убегали от образованности своего времени под сень гонимого и презираемого христианства.
Максим воротился на родину, но, вероятно, увидел, что со всем тем запасом знаний, который он принес с собою из чужого края, нечего было делать в порабощенном отечестве, где, по его словам, наука была доведена до последнего издыхания. В Италии он не ужился с западным просвещением, потому что не вынес безнравственности и лживости; не сделался он папистом, потому что, зная греческую литературу, слишком был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще меньше мог он в Греции ужиться с поработителями своего племени и, в угоду им, утеснять своих собратий, как делали иные его соотечественники. Максим был, с одной стороны, слишком образован, с другой, слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в тогдашнем мирском обществе на своей родине. Он ушел в монастырь на Афон; он был очень религиозен и принадлежал к той церкви, которая давно уже ставила иночество высшим идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его целомудренной душе: он ни за что не хотел допустить, подобно другим, чтобы род человеческий размножался обычным животным способом, если бы первая чета не подверглась грехопадению; подобие человека с остальными животными в этом отношении казалось ему унижающим человеческое достоинство.
Но Максим не сделался, однако, безусловным врагом просвещения и науки; он уважал знание. Вооружаясь против астрологии, он, однако, не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как ни возмущало его увлечение классической древностью, доводившее Италию до уродства, но все это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. По примеру отцов церкви, он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии, выше всего ставил богословие: оно было для него внутреннею мудростью, а все прочие науки – внешнею.
Из своей жизни в Италии вынес он одно заветное воспоминание – воспоминание об Иерониме Савонароле. Среди всеобщего развращения нравов в Италии, в виду гнуснейшего лицемерия, господствовавшего во всей Западной церкви, управляемой папой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, смелый и даровитый доминиканский монах Иероним Савонарола начал во Флоренции грозную проповедь против пороков своего века, во имя нравственности, Христовой любви и сострадания к униженным классам народа. Его слово раздавалось пять лет и оказало изумительное действие. Флорентийцы до такой степени прониклись его учением, что, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши, соблазнительные картины, карты и т.п. в монастырь Св. Марка и сжигали перед глазами Савонаролы, жертвовали своим состоянием для облегчения участи неимущих братьев, налагали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один разве пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось тогда во Флоренции. Но обличения Иеронима вооружили против него сильных земли. Его обвинили в ереси, и в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, слушал его проповеди, и надолго остался напечатленным в душе Максима образ проповедника-обличителя, когда тот, в продолжение двух часов, стоя на кафедре, расточал свои поучения и не держал в руках книги для подтверждения истины своих слов, а руководствовался только обширною своею памятью и «богомудрым» разумом. «Если бы, – говорит Максим в одном из своих сочинений, – Иероним и пострадавшие с ним два мужа не были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними защитниками благочестия. Это показывает, что хотя латыны и во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви…»
Иероним Савонарола как обличитель людских неправд остался на всю жизнь идеалом Максима: он везде готов был подражать ему, везде хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, поражать ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. С таким настроением духа прибыл он в Москву, где управлял государь, отличавшийся тем, что не терпел ни малейшего себе противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, где духовенство отличалось грубостью нравов, ревниво держалось за свои земные выгоды и не в состоянии было, при своем невежестве, ни учить народа, ни руководить его пользою.
Василий принял Максима и его товарищей очень радушно, и ничто, по-видимому, не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в отечество, когда они исполнят свое поручение. Говорят, что Максим, увидавши великокняжескую библиотеку, удивился изобилию в ней рукописей и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов: быть может, в этих словах было несколько преувеличения, по свойственной грекам изысканной вежливости.
Максим приступил к делу перевода Толковой Псалтыри; так как он по-русски еще не знал, то ему дали в помощники двух образованных русских людей: один был знакомый нам толмач Димитрий Герасимов, другой – Власий, исправлявший прежде того дипломатические поручения. Оба знали по-латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма приставлены были к ним иноки Сергиевой Лавры: Силуан и Михаил Медоварцев. Через полтора года Максим окончил свой труд; кроме того, перевел несколько толкований на Деяния Апостольские и представил свою работу великому князю с посланием, в котором излагал свой взгляд и правила, которыми руководствовался. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, пославши с ними и богатую милостыню на Афон, но Максима удержал для новых ученых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее, если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для нее по возвращении его домой.