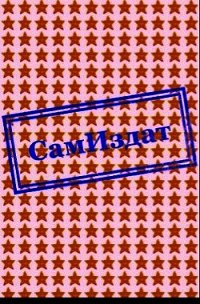Младший сын - Балашов Дмитрий Михайлович (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
По уходе Прохора они долго сидели с Грикшей в избе, пили пиво, говорили и спорили. Федор с болью «выкладывался», а брат, усмехаясь, утешал и корил:
– То не горе, что берут! И всякая власть будет брать. Не в соби дело: сколько там добра, каки кони, чем пашут и кто, деревянна у его лопата али с железной оковкой… Самое главное для хозяйства – это право и власть! Важно, кто твою собь защитит! Не добро само по себе, не животы крестьянские, а защита добра! Этим и княжества стоят, и князи потому хороши ли, плохи, как право блюдут да есь ли сила оборонить землю. Како хозяйство у татар! Ужель лучше нашего?! Да скот пасти в степи дурак заможет! Сена и того не косят. А забрали полмира! Эко! Почто? Власть!
А добро… Ежели наработано, да легко отобрать, считай, его и нету у тебя! Собина ета пото и существует, коли законом защищено и силой власти огорожено. Кто сумеет лучше защитить добро? Вот о чем у крестьянина печаль. Иногда и в холопы полезешь, лишь бы добро оборонить. Так-то!
Думашь, они не понимают? Понимают! Все понимают! То бы ты один там и собирал дани! Да убили бы в перву же ночь! Ну, а волостель, тот своему боярину радеет, как и ты…
– Но как я саблей! На мужика! Грикша, ну почто он меня обманул?!
– Ты хочешь и с ними, и над ними! Гляди, купец и тот николи не пьет с подручными! На стороне где разве…
Ты, Федя, только нынче то постигаешь, а я давно знаю: нельзя! Съедят! А уж внизу, так внизу. Тогда и сиди, носа не высовывай. И еще одно скажу: не хвались! Настоящего купца не увидишь с кунами в руках. Это не купец, кто без дела серебро мечет. Умные мужики, деловые, не видны на миру, но они не с миром, они выше стоят. Мне, по твоему разговору, староста твой люб. Вот умный мужик! И гляди, его выбрали, не другого! А своему этому приятелю ты набахвалил, видно, да и пил с им. Ну, он и решил тебя нагреть… А как же! И всегда надо преже думать, а потом делать, а не как мы любим: после скобеля да топором!
Боярина возьми, хошь самого набольшего, он и гордится, и все, а настолько – насколько допускает и понимает народ. Нужно, чтобы в одно было. А когда понимать не станут, и уважать перестанут тоже. Может, при Батые пото и погибли, что с мужиками стали поврозъ. Уже не свои! Власть должна быть нужна.
Так что, с одной-то стороны, нельзя отходить, должна быть общая жисть, с другой – надо быть господином, себя не ронять. Я вот тоже, когда начинал при монастыре. Там ить всякой народ! И свои, и пришлые, кого наймуют. Ентим что! Понес на меня один, по-матерну, при народе. Крой! Я ему, думашь, слово отмолвил? А потом: хочешь работать? Вместо серебра овсом заплатил ему. На серебро не рядились, был в своем праве. А тому дураку ордынский выход надо давать. Ходил тише мыши, бегал, на брюхе ползал. Так вот, пущай меня материт!
Шурьяк тут опять наезжал. В Угличе у их колгота. А почто? Борисовичи, князья, себя потеряли. Перед народом ссорятся, разве мочно? Вот уже и разрыв. Случись что, не поддержат их мужики! Еще тут без тебя дело было: Литва воевала тверскую владычную волость Олешку. Так били ее вместях дмитровцы, тверичи, зубчане, волочане. Князя ихнего, Доманта, забрали…
– Мне бы холопа добыть! – вздохнул Федор.
– То-то, холопа! А с мужиками пьешь!
Глава 73
Проголубело, копыта осклизались на раскисшей и за ночь подмороженной дороге, снег на солнечной стороне был ноздреват, в столбиках, словно крупная соль. Дышалось легко, и, полуразвалясь в санях, Федор иногда лишь лениво нахлестывал. Порожние кони бежали легко, и сани мотались из стороны в сторону. В западинке стоял тонкий серебряный звон: звенел ручей под снегом. Кучи облаков сваливались, и Федор, разнежившись, нет-нет да и гадал – доехать бы!
Солнце вышло и враз простерло на все свои горячие лучи, и мир ожил. Чирикало и пищало в кустах, покрасневших в предведенье весны, набухшие почки, казалось, пили свет, и все помнилась глупая девка там, у себя, куда ехал: «Ты парень работящий, я тоже, ты оставь свою бабу, зачем она тебе, а меня возьми!» Глупая девка, рослая, четырнадцать лет всего, ох, и глупая! Не захотел перед мужиками позориться… Он сплюнул на дорогу. Встречь бежали кони. «Куды!» Кнут взвился в воздухе. Федор чуть не выпал из саней, ругнулся, схватясь за саблю. «Блажно-о-ой!» – летело вслед. И чего подумал вдруг про разбой? Попритчилось. Он медленно успокаивался, уже со стыдом вспоминая, как дуром схватился за саблю. «Одичаешь!» – оправдывал себя. Тянулись возы с сеном. Обгоняя, скакали верховые. Уже лужи расползались вширь, у коней заметно потемнели спины, уже с тревогою думалось о том, как все же доехать до места? Близился Юрьев.
К вечеру вовсе раскисло, и ночь не обещала мороза. Федор запряг в потемнях. Сосульки опадали с крыш. Сани на выезде проволочились уже по земле. «Добраться бы до Владимира!» – гадал Федор, с трудом подымаясь на гору. Застоявшаяся зима разом рушилась, и семьдесят верст до Владимира превратились в муку. Его уговаривали задержаться во Владимире, Клязьма уже вскрывалась, но Федора словно бес гнал.
– Эгей! Переславськой, пропадешь! – кричали с берега, когда он отчаянно перебирался через лед. Искупав лошадей и сани, Федор все же выбрался на ту сторону, и тотчас, с гулом, за его спиной тронулся лед. Через Судогду опять перебирался по ледяным заторам. Подрагивало и трещало, сердитая вода шла верхом. Разноголосо звенели ручьи, снег оседал на глазах. В промокшей сряде, на измочаленных, взъерошенных конях, в очередную чуть не утонув, Федор упрямо пробирался все дальше. Дышать не надышаться! Ведь он молодой, ведь он все может, ведь жизнь еще впереди! Остервенело кричали галки, в небе тянулись птичьи стада. Волк, тоже поджарый, вышел и, поводя боками, уставился на шального ездока. Федор и ему улыбнулся: ишь, горюн, зиму пережил, теперь оклемаешься!
Он таки добрался до села. Засиверило, и чуток скрепило пути. Федор последним пробился в село, уж и не ждали. В ночь рухнул лед, и село оказалось на острове.
Потоки воды подмывали изгороди и стога сена. Федор трясся под шубами, прогреваясь, парился в бане, отходил. Отходили и кони после тяжкого пути. А кругом звенело и пело, птичий грай и гомон стоял над деревней, ручьи лопались с треском, выбрасывая на огороды ледяные вороха. Шла весна.
Никогда бы не подумал Федор, что, сидя на кормлении, ему придется работать руками больше, чем дома. Началось с починки вдовьих хоромин, которую Федор, затеяв, упрямо решил довести до конца. Чтобы перед самым севом сдвинуть мужиков с места, ему самому пришлось взяться за топор и работать, не щадя сил, от темна до темна. Дело пошло. Подрубили три клети, сложили начерно избу, поправили тем же часом боярский великий двор. Тут Федор не выкладывался уже; распоряжался сам волостель и староста, а мужики вышли дружно. Хоть, конечно, ежели каждого спросить, кому – вдовам или отсутствующему боярину – нужнее помочь, не задумываясь сказал бы: вдовам, и все-таки на боярскую работу вышли все. Опять оказывалось, что Грикша прав. Решали не нужда, не богатство даже, а власть, сила. Боярин воротится, станет на крыльцо, вызовет волостеля и будет править суд, казнить и миловать, и забудут мужики, что где-то есть еще великий князь Дмитрий и прочие власти.
По тому, как чинили хоромы, он думал было, что и на пашню боярскую, что должны были подымать «взгоном», пойдут так же дружно. Не тут-то было! Федор понял позднее, что хлеб этот, что пойдет Окинфу и князю Дмитрию, их не интересовал, не нужен он был и волостелю. Того даже и похвалят, что не порадел наезжим кормленикам. Лишь крайним напряжением сил (тут помогло и то, что Федор починял усадьбы вдовам, да к тому же и сам пахал, и опять от темна до темна) удалось поднять и засеять господскую пашню без больших огрехов. Чтоб не пришлось самому и косить, Федор, по совету старосты, роздал боярские покосы исполу: ставишь два стога – один бери себе.
Федор узнал, что очищенные им о Рождестве волостелевы хлева снова наполнились, и, проследив, обнаружил, что скот отдавали волостелю сами мужики, причем кто победнее – в первую очередь. Так что княжеские дани и кормы, круто взысканные Федором с волостеля, потихоньку оказались переложены на плечи беднейших крестьян. Выходило то же, как ежели бы он брал сразу крестьянское. Однако отношение к Федору не изменилось. Верно, что было тут две правды: одно – правда по совести, а другое – не спорить с тою властью, что будет тут и потом. Один так и сказал ему: