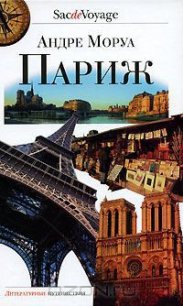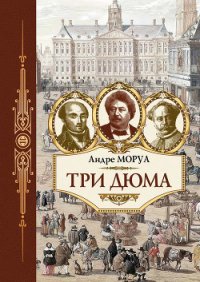От Монтеня до Арагона - Моруа Андре (чтение книг .txt) 📗
Но какие же истины открыл он для себя с помощью этих трех видов общения, анализа собственной мысли, путешествий? Главное — бесконечное многообразие нравов, обычаев, суждений. Каждый народ именует варварством то, что не принято у него самого. Представляется, что для нас единственный образец истины — взгляды той страны, из которой мы происходим. Только здесь (для каждого) — совершенная религия, совершенная полиция, и не потому, что они разумны, но потому, что они наши.
Человек, который читает или путешествует, не может не заметить, что в зависимости от времени и места человеческий разум придает равное значение совершенно разным обычаям и верованиям. Монтень неоднократно забавляется составлением нескончаемых перечней такого рода примеров, подчас невероятных. Есть народы, которые оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Такие, где мужья без всяких причин могут отвергать своих жен. Еде самый желанный вид погребения — это быть отданным на съедение собакам, а в других местах — птицам. Такие, где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Здесь питаются человеческим мясом; там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста. Список занимает страницы и страницы. Какой же можно из этого сделать вывод, если не тот, что единственный владыка мира — обычай?
Человек непостоянен. Он существо, вечно колеблющееся и многоликое (поэтому-то у него и есть история). Он следует обычаю, даже когда обычай идет вразрез с разумом. Есть ли что-либо более удивительное, чем то, что мы постоянно видим перед собой, — а именно нацию, которая руководствуется во всех своих домашних делах законом, записанным и опубликованным не на ее языке? Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть нацию, где судейские должности продаются, а приговоры оплачиваются наличными? Так вот, это государство — Франция. Значит ли это, что должно восставать против обычая? Он так не считает. Такого рода рассуждения не должны отвращать разумного человека от следования общепринятому образу жизни. Все выдумки и причуды, отступления от принятых правил продиктованы скорее сумасбродством, чем разумом.
Монтень одобряет Сократа за то, что тот пожертвовал жизнью ради закона, пусть и несправедливого [16]. Всегда сомнительно, может ли изменение действующего закона принести пользу. Политический строй подобен зданию, выстроенному из нескольких соединенных между собой частей: невозможно поколебать одну из них, чтобы это не отразилось на целом. «Я разочаровался во всяческих новшествах, — говорит Монтень, — в каком бы обличии они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают… Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут». Поэтому он восхваляет христианскую религию за то, что она предписывает повиноваться властям.
Но какую же пользу надеется он извлечь из этого перечня обычаев и показа человеческих безумств? Зачем разоблачать все это, если в конечном итоге предлагается добровольно во всем этом участвовать? Ответ не труден. Важно убедить человека в его невежестве, поскольку это значит внушить ему скромность, мать терпимости. «Что я знаю?» — говорит Монтень и доставляет себе удовольствие в прославленной «Апологии Раймонда Сабундского» [17] ниспровергнуть многие из способов, с помощью которых человек, как он полагает, постиг истину. Философия — это всего лишь софистическая поэзия. Наука? Она расплачивается с нами вещами, которые сама же учит нас считать выдуманными. Опыт? Мы видим, что, представив себе одно, краснеем, а другое — бледнеем, мы можем, если захотим, пошевелить пальцем, но почему? Как? Кто это знает? История? Невозможно извлечь никаких следствий из сходства событий: они всегда отличаются одно от другого — не тем, так этим. Медицина? Медики никогда не могут прийти к согласию между собой. Нет, в мире никогда не существовало двух одинаковых мнений, как не существует двух одинаковых волос или зерен.
Каков же итог? Если мы ничего не знаем и не можем ничего знать, какой совет дать человеку, чтобы он мог руководствоваться им в жизни? Паскаль, который после Монтеня взялся за разрушение всей человеческой науки, чтобы лучше соединить человека с богом, считает Монтеня скептиком. Это неверно. «Что я знаю?» — не последнее его слово. Точно так же, как «чистая доска» — не последнее слово Декарта [18]. Если сомнение — мягкая подушка «для толковой головы», то потому лишь, что оно спасает от фанатизма. «Упрямство и пылкость духа — самые верные доказательства глупости. Есть ли на свете существо, столь же уверенное в себе, решительное, заносчивое, созерцательное, важное, глубокомысленное, как осел?» Сумасшедший не сомневается никогда.
Сомнение Монтеня остается позитивным. Он не скептик, а агностик. Он не утверждает того, чего не знает. Он считает атеизм предположением, которое не доказано, противоестественным и чудовищным. Но он отлично видит, что «мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами». Мы получаем свою религию от обычая, поскольку родились в стране, где она принята.
Наш разум не способен постигнуть и доказать метафизические истины. Остаются два выхода: заключить, что они для нас вовсе непознаваемы, или попробовать принять их, опираясь не на доводы и суждения, но из божественных и сверхъестественных рук. Монтень избирает второе. Как может человек поверить в то, что «это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил», существуют столько веков для него, для его удобства и к его услугам? С какой стати разум этого бренного создания может претендовать на роль господина и властителя Вселенной, познать малейшую частицу которой не в его власти? Будем же и тут, как во всем прочем, следовать обычаю. Монтень верует в бога, как античный деист, и он христианин, потому что он — француз XVI века.
Но он не желает, чтобы религия, предназначенная для истребления пороков, их питала. Он не согласен, чтобы какой-нибудь воинствующий католик во имя христианства, религии добра и милосердия, убивал женщин и детей потому только, что они протестанты. В сущности, мораль, избранная им для себя лично, — это свободный стоицизм, слегка окрашенный эпикуреизмом. Этот беспечный человек способен проявить душевную силу и не раз это доказывал как в гражданских опасностях, так и в болезни. Совсем молодым он пожелал приучить себя к смерти, мысленно представляя, что она всегда может быть рядом. «Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица… будем повторять себе всякий раз: а что, если это и есть сама смерть? Благодаря этому мы… сделаемся более стойкими». И он добавляет, несколько вразрез с собственным высказыванием: «Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда вы живы? Когда живы — потому что вы еще существуете; когда умерли — потому что вас не существует», — а это равносильно тому, чтобы сказать, что человек не может осмыслить свою смерть.
В конечном итоге эта мудрость, благоразумная и смелая по мерке человека, одновременно скромная и твердая, крестьянская и тонкая, — одна из самых замечательных в мире. Нет писателя, который был бы нам так близок, как этот перигорский дворянин, умерший в 1592 году. Идет ли речь о невежестве, терпимости, бесконечном многообразии обычаев, мы можем воспользоваться его опытом. Ален знавал одного торговца дровами, который неизменно носил в кармане томик Монтеня. Нет лучшего советчика — лучшего путеводителя, я имею в виду, — для людей нашего времени. Подобно Алену, который был нашим Монтенем, этот делатель книг главным образом стремился направить свою жизнь. Он все еще может направить и нашу.
АМИО