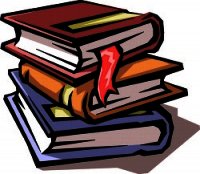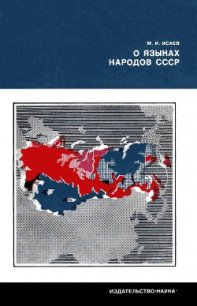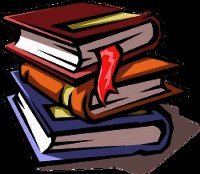Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь - Бордюгов Геннадий Аркадьевич
В общественно-политические кампании вновь стали превращаться исторические юбилеи. В число приоритетов историографии вошли проблемы военно-политической истории. Прославлялись победы русской армии, проводилась мысль о прогрессивном значении национально-освободительной борьбы русского народа, превозносились достоинства русских полководцев. Стали подчёркиваться прогрессивный характер процессов «собирания земли русской», формирования «ядра русского централизованного государства», создания «великой державы».
Восстановление исторической преемственности между Россией старой и Россией новой и одновременно удержание интернационалистических и классовых принципов создавало весьма эклектичную картину. Ни Сталин, ни ведущие идеологи режима на протяжении 1930-х годов не были склонны разъяснять «альфу» и «омегу» содержания государственной идеологии. Не случайно те, которые наблюдали в эти годы СССР со стороны, испытывали растерянность и недоумение. Для них «лихорадка патриотизма» в советской идеологии и науке была неожиданной. Некоторые немецкие авторы поспешили заявить, что русский элемент вновь возобладал в Советском Союзе, поскольку жизнь сильнее непрактичных теорий. Сталин — русский революционер и патриот, лишённый устремлений к мировой революции. Происходящее в Советском Союзе имеет мало общего с теориями Карла Маркса.
Некоторые литераторы намекали на существенное сходство между событиями в России и Германии: ведь восторжествовал же в обеих странах «вождизм» («Fuhrer-prinzip») {18}. Сотрудники «Антикоминтерна», специального ведомства Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха, выступили против подобных толкований: «Мы самым решительным образом отвергаем какие-либо попытки провести параллели между большевизмом и национал-социализмом» {19}. Насаждение Москвой державно-патриотической идеи это ведомство изображало как стремление «мобилизовать народы Советского Союза на борьбу за мировую революцию путем злоупотребления их национальными патриотическими чувствами. Разумеется, перемены есть, но они объясняются лишь характерной для евреев бесчестностью. Эволюция большевизма в направлении к национальному государству невозможна по той простой причине, что Россия — еврейское государство, а еврей не может превратиться в арийца» {20}.
Если отвлечься от характерного для нацистской риторики отождествления мирового еврейства и большевизма, то основания для сомнений в отношении переориентации советской идеологии были. Хотя бы потому, что эти перемены происходили под знаком большевистских, революционных ценностей. Восстанавливались прежде всего имена и авторитеты, которые не нарушали социально-культурного фона советской эпохи. Переиздавались труды «революционных демократов», иные духовные авторитеты и пласты русской культуры XIX — начала XX века фактически оставались под запретом. Для Сталина сохраняла силу ленинская негативная оценка Достоевского, не жаловал он и социалиста Герцена.
Пик идеологических непрояснённостей приходится на 1939–1941 гг. Прекращается изображение историками и литераторами прежней России как «тюрьмы народов» — тем более что требовалось снять с «идеологического тормоза» проблему присоединения к СССР Бессарабии, части Польши, Прибалтики и др. Несмотря на восхваление в прессе советско-германской дружбы, патриотизм и антифашизм не исчезают совсем как темы и подходы. В такой обстановке родились запросы редактора журнала «Интернациональная литература», озабоченного формированием направления издательской политики, — сначала, в сентябре 1939 года, в Союз писателей, затем, в ноябре 1939 и декабре 1940 годов, — в ЦК ВКП(б). Дело кончилось проверкой работы журнала и обвинениями редакции в «упрощённой агитации» и сохранении «антифашистского духа» {21}.
В 1941 году в майском номере «Большевика» Сталин наконец-то публикует свой текст «О статье Энгельса “Внешняя политика русского царизма”». Эта статья логически завершала идейную конструкцию, содержавшуюся в документах 1934–1936 годов, делала более явственной её характер. Баланс между классово-интернационалистским началом и державно-патриотическим подходом заметно изменялся в пользу последнего. Кроме того, исторические параллели и экскурсы, к которым прибегал Сталин (например, там фигурирует Наполеон, образ которого ассоциируется с сокрушительным крахом завоевательной политики в отношении России), актуализировались в обстановке прямой военной опасности. Наконец, уже никто и ничто не могли помешать вождю поставить себя в один ряд с классиками. При этом он оставлял поле для идеологического маневрирования — отказался от введения понятия «сталинизм» в значении «ленинизма сегодня». Ограничился персонифицированной передачей «эстафетной палочки» — «Сталин — это Ленин сегодня».

Ситуация в идеологии не была доведена до состояния ясных истолкований и установок и после 1941 года, когда произошло окончательное оформление национал-большевистской переориентации идеологии. Однако в годы войны назревают и более существенные перемены. Поначалу великодержавный национализм был поставлен на службу активизации патриотических чувств всех народов СССР. Понятие «Родина» отождествлялось с СССР, а не только с Россией. Слово «русский» выступало синонимом слов «советский», «социалистический», «глубоко интернациональный». Доминировала версия общенародного, концентрирующего в себе национальные чувства всех народов СССР патриотизма. По мере достижения успехов на фронте начинает проводиться реструктуризация патриотического синкретизма. Ряду народов было отказано в патриотизме. Выстраивается иерархия значимости его проявлений у различных этнических групп, проживающих в стране. Эта дифференциация патриотизмов служила идеологическим обоснованием крупномасштабных акций политико-демографического (депортации народов) и культурно-национального (новое пресечение ростков национального сознания в историографии и литературе) характера, которые предприняло сталинское руководство, воспользовавшись атмосферой воюющей страны, поражённой шпиономанией и психозом уличения предателей.
В ряду самых заметных идейно-политических акций последнего периода войны — постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». В нём осуждалась идеализация местными историками Золотой Орды и популяризация тюркского эпоса об Идегее. Однако этим постановлением дело не ограничилось. В самом начале октября 1944 года в ЦК неожиданно всплывает вопрос, связанный с публикацией в казанском журнале «Совет Эдэбияты» ещё осенью 1940 года сводного варианта эпоса «Идегей» и статьи писателя Н. Исанбета «500-летие татарского народного эпоса — дастана Идегей».
В записке, подготовленной Г. Александровым и М. Иовчуком секретарю ЦК Г. Маленкову, с явным неудовольствием сообщалось о том, что номер этого журнала с начала 1941 года широко распространился в Татарии. Герой эпоса стал популяризироваться как герой татарского народа, хотя «он совершал опустошительные набеги на русские города и селения, увёл в рабство десятки тысяч русских людей». Попытки некоторых историков Татарии провести разграничительную черту между Идегеем историческим и Идегеем — героем эпоса, смягчающее остроту вопроса заключение Бахрушина и Толстого о том, что это произведение не является эпосом какого-либо одного из народов Советского Союза, явно не удовлетворили авторов записки. Они предложили Маленкову следующий вывод: «Стремление некоторых татарских литераторов поставить эпос в один ряд с величайшими произведениями устного творчества народов СССР ничем не обосновано, так как эпос этот отражает далеко не прогрессивные исторические события. По своим идейным качествам он не может идти ни в какое сравнение с «Давидом Сасунским», «Калевалой» и другими, так как воспевает агрессивное государство — Золотую Орду, проводившую захватнические войны» {22}.