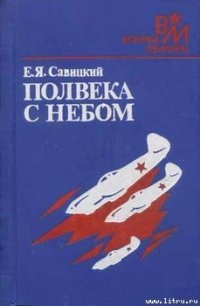Континент Евразия - Савицкий Петр Николаевич (бесплатные книги онлайн без регистрации txt) 📗
VIII. Мы не можем ставить себе задачей дать хотя бы приблизительный список тех разрядов археологического инвентаря, в которых выразилась самобытность кочевого мира. Скифы обладали своеобразной уздечкой. Особой была форма их луков, напоминавшая грекам картографические очертания Черного моря (две неравномерные излучины). Своеобычен скифский горит (т. е. соединение налучья и колчана). Не говорим об особенностях одежды, общих всему кочевому миру [305]. Остановимся в нескольких словах на вопросе т. наз. звериного стиля. Сосредотачиваясь на предметах личного и конского убора, стиль этот воплощает важную отрасль кочевой жизни. Животные формы, представленные на археологических памятниках степного мира, весьма разнообразны. В скифо-сарматской группе, в изображении животных, можно различать, напр., греческий, иранский и собственно степной пошибы. В этом отношении вопрос с классификацией форм звериного орнамента, встречающихся в скифо-сарматском инвентаре, обстоит приблизительно так же, как с различением тканей, найденных в гуннских курганах внешней Монголии (экспедиция П. К. Козлова). И там, и здесь в одних и тех же погребениях сочетаются существенно разнородные вещи (в частности, в гуннских курганах обнаружены греческие, китайские и местные ткани). Для нас наиболее интересен собственно степной, или, точнее, "евразийский", пошиб звериного стиля. В пределах ряда веков пошиб этот является как бы художественным отличием кочевого мира. Вдохновение мастера сосредотачивается преимущественно на фигурах козла и оленя. Можно отметить изображения дикого кабана, зайца и птиц. В более ранний период (представленный для нас главным образом скифскими памятниками и затем стилистически сопряженными с ними памятниками "минусинского" бронзового дела) господствует манера, которую можно назвать "стилистическим реализмом". Позднее приходит к господству "звериный импрессионизм". Частые уже и в предшествующий период сцены нападения хищника на добычу дополняются дающими высшее напряжение сценами борьбы между хищниками. Нужно отметить мотивы "сконструированных зверей". Здесь мы имеем дело не с человекообразными фантастическими существами, обычными в передисазиатском искусстве, но с изображениями животных, как бы составленными (или "сконструированными") из элементов, относящихся к самым различным видам: напр., изображено животное с оленьей мордой, львиными лапами и хвостом, оканчивающимся птичьей головой. В такой "конструкции" распознаваем пафос именно звериного стиля. По сравнению с фауной "стилистического реализма" фауна "звериного импрессионизма" является обогащенной. Обычны мотивы не только льва и тигра (что указывает на влияние южной периферии), но и яка, исконного обитателя срединно-материковых нагорий. Памятники "звериного импрессионизма" особенно характерны для погребений, которые, так или иначе, могут быть сопоставлены с "ранне-гуннской" эпохой (ранее IV века после Р. X.): курганы Монголии, раскопки Талько-Гринцевича около Троицко-Савска, раскопки Радлова на Алтае, западносибирские золотые пластинки. "Звериный импрессионизм" был, по-видимому, стилем гуннской державы, так сказать, "гуннским ампиром". Кочевой мир создал не только примечательный звериный стиль. Обслуживавшие его мастера (в западной Евразии, в большом числе случаев, греческой школы) выработали особый пошиб жанрового искусства. В жанровых сценах, запечатленных в металле, сохранены для нас облик и образы людей тогдашнего степного мира. Существование жанрового искусства засвидетельствовано также для срединно-евразийских степей (жанровые сцены на западносибирских золотых пластинках, фигурка всадника с Алтая и др.).
IX. Нужно отметить специфическую связь между культурами степной и северной лесной зоны (к востоку от черноморско-балтийского и балтийско-студеноморского междуморий). В изложении Н. П. Толля мы подходим к этим проблемам в вопросах воздействия скифской культуры на ананьинскую и сарматской — на пьяноборскую культуру, а также в явлениях взаимодействия между металлодобывающими центрами лесной зоны и степной культурой. Из более ранних фактов сюда же можно отнести связь между древнейшей степною культурой (т. наз. "скорченных и окрашенных костяков") и неолитической фатьяновской культурой нынешней Московской области (в широком смысле этого слова). Культуры степной и лесной зоны (к востоку от междуморий) объединены, между прочим, типом одежды. "Археологии драпировок", характеризующей прошлое западной и южной периферий Старого Света, в мире степной и лесной зоны противостоит "археология кафтана и штанов". Это обстоятельство сопряжено с условиями климата. "Русская зима" отличительна для "прямоугольника степей" вместе с северной лесной зоной (на огромном пространстве средняя январская изотерма ниже — 5 °C, на многих миллионах кв. верст — ниже –15' С).
Также звериный стиль особого пошиба является общим для степной и северно-лесной зоны. Поэтому-то пошиб этот и может быть назван "евразийским" (см. выше). В течение долгих столетий он в равной степени характеризует искусство Доуралья и Зауралья. Есть основания думать, что пошиб этот повлиял на китайское искусство [306]. Впрочем, в китайском искусстве он выступает в существенно преобразованном виде. А в раннем средневековье этот стиль, на несколько столетий, утвердился в Европе. Однако, как устойчивый эстетический уклад, стиль этот отличает, по преимуществу, совокупность евразийской степной и евразийской лесной зоны. — Некоторые черты специфической связи нужно отметить и в соотношении кочевой культуры с культурами срединно-материковых оазисов (см. выше) [307]. В соответствии с этим культурная среда степного мира вместе с культурами северно-лесной зоны, с одной стороны, и срединно-материковых оазисов — с другой, выступает пред вами, в качестве целого, со сравнительно тесной внутренней связью [308]. Судьбы этого культурно-исторического целого и составляют историю Евразии [309].
X. Существенно отметить историософское самопротивопоставление степного мира окраинно-периферическим мирам. В этом отношении показательны слова того же китайца-евнуха, перешедшего к шаньюю Киоку (см. выше). Он отклоняет упреки, делаемые китайцами кочевникам, в плохом уходе за стариками и в переходе жен от умершего к другим представителям рода. Плохой уход он объясняет условиями военной жизни, а переход жен — стремлением поддержать родовое единство. Затем он обличает китайцев: "Ваши обычаи и ваше право таковы, что класс восстанавливается против класса; и одни принуждены быть рабами, чтобы дать другим возможность жить в роскоши". Это, пожалуй, самое раннее, дошедшее до нас противоположение "срединного мира" периферическому, как миру "капитализма и эксплуатации". Обличения евнуха есть как бы слово о "гнилом Китае". Он указывает на раздоры, ссоры и разрушение семей. "Что вы будете рассказывать мне, вы, посаженные в клетку модники!" Основу гуннской мощи он видит в независимости гуннов от Китая по части всех реальных потребностей (так сказать, идея "хозяйственно самодовлеющего мира"). Обращаясь к гуннам, он говорит: "Шелка и ситцы гораздо менее, чем войлок, приспособлены к той суровой жизни, которую вы ведете; и китайские лакомства значительно менее питательны, чем ваши кумыс и сыр". Аналоги этим суждениям можно найти в скифской, поздне-гуннской и турецкой истории. Изучение исторнософской проблемы России и Европы нужно начинать с изучения, в истории кочевого мира, постановки вопросов о срединном и периферических укладах. В постановке этой, за много столетий до нашего времени, мы встречаем мотивы, которые звучат и в XIX и в XX вв.