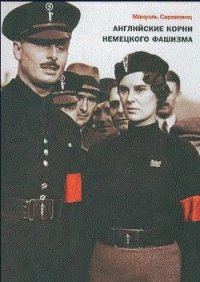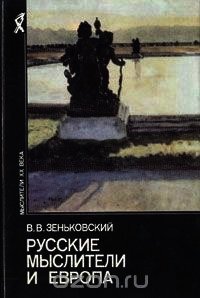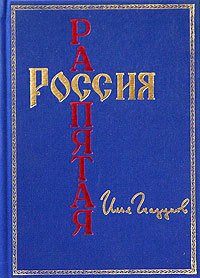Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева - Саркисянц Мануэль (читать книги онлайн без .txt) 📗
Крестная мука Христа превращается, таким образом, в страдание самой Матери Земли. Таков фон, на котором особенно рельефно предстает традиционное русское учение о святости земной жизни. Будучи рожден Матерью Землей, человек несет в себе искру Божественного.
Мотивы креста как такового не играли важной роли в русской народной религиозности — в противоположность западному христианству. Федотов писал, что русские не очень хотели видеть страдания Спасителя, сына Творца, испытывая их в земной жизни вокруг себя — как распятие твари. С этим было связано русское богоборчество, а вместе с ним и отказ принять церковное искупление через крест {121}. Согласно народным представлениям о мироздании, Земля сама по себе была носительницей нравственного закона [9] {122}.
Спасение от мук Голгофы ассоциировалось с мыслью о Воскресении. Красный цвет, цвет крови, чаще, чем где бы то ни было, выступал в России как цвет Воскресения (пасхальный цвет). В 1915 году Розанов писал, что алая кровь, представляющая собой наглядный образ пасхи и воскресения во плоти, пролитая Россией (на полях первой мировой войны), принесет освобождение «братским народам» {123}.
При этом идеологическая преемственность большевистского мифа о пролетариате (а вместе с ним и материализма, т. е. абсолютизации материального!) по отношению к русскому православному идеалу Воскресения отнюдь не сводилась к одним лишь теоретическим упражнениям. Об этом свидетельствует ранняя советская литература. Как Андрей Белый (в знаменитой поэме «Христос воскрес»), так и намного менее известный, но более приверженный советской идеологии поэт В. Кириллов говорят о мировой революции как о воскресении (стихотворение «Красный Кремль») {124}. Николаю Клюеву же чувствовалось, как «в 25-й октябрь 1917 потряслась земля, как сломались печати и замертво пали стражи гроба. Огненная рука революции отвалила пещерный камень и Он воскрес…» Аналогичный мотив звучит и у Александровского: «Ты пошла умереть под метелями / Чтобы снова воскреснуть в огне» {125}.
Подобные идеологические ассоциации с идеалом преображения можно обнаружить у тех русских революционеров, которых принято считать предшественниками большевизма. Они неоднократно обращались к идеалу воскресения, и прежде всего к апокалиптическому мотиву нового неба над новой землей. Этому способствовала и романтическая философия истории, повлиявшая, например, на М. А. Бакунина {126}. Бакунин был, как известно, заклятым врагом религии; но и в тот период, когда атеизм великого анархиста принял воинствующий характер, его мировоззрение продолжало оставаться внутренне религиозным {127}. Человечество — это Бог в материи, — утверждал Бакунин. «Назначение человека… перенести… небо… на землю… поднять землю до неба. <…> Друзья мои, земля уже не есть наше отечество. <…> [Оно] должно проявлять бесконечное приближение божественного человечества к божественной цели…» {128}.
В 1842 году Бакунин чувствовал: «Весь мир страдает от мук, в которых рождается новый, чудесный мир. Великие мистерии человечества, которые возвестило нам и сохранило для нас христианство, несмотря на все его заблуждения, теперь станут действительностью… Это изменение демократической партии в самой себе… будет не только количественным изменением — последнее означало бы опошление всего мира, и конечным его результатом стало бы абсолютное ничтожество — но качественное преобразование, новое, живое и живительное откровение — новое небо и новая земля» {129}.
Глубинный мотив преображения (не без влияния Шеллинга) звучал и у молодого Александра Герцена; его письма к невесте (Захарьиной) изобилуют свидетельствами такого рода {130}.
Наконец, левый эсер А. Штейнберг, которого можно отнести к последним (и изрядно потускневшим) представителям народнической традиции, восходящей к Герцену, писал уже после большевистского переворота, что революция может победить лишь в новом человеке на новой земле. Достоевскому Штейнберг приписывал убеждение, согласно которому Россия призвана преобразить мир, перенеся преображение Земли из сферы трансцендентного в область имманентной реальности {131}.
А Луначарский, будущий ленинский нарком просвещения, еще в 1908 году связывал достижение «социализма» с приходом нового человека и «нового» мира: «Посыпятся удары, полетит щебень, и из бесформенной глыбы глянет на человека мир высвобождаемого молотом нового очеловеченного мира!» {132}
Сознавал это марксист Луначарский или нет, но его косвенным предшественником на этом пути был не кто иной, как Владимир Соловьев. Именно он обнаруживал в мире формирующуюся божественную идею, которая, будучи воплощена в красоте природы, скрывала царство материи и смерти; назначение же человеческого разума, по Соловьеву, состояло в том, чтобы наполнить собой это царство, вдохнув в природу вечную жизнь {133}.
Еще более очевидным предшественником советских идеалов организации и управления силами природы (этот идеал до сих пор чаще всего рассматривается как результат западного влияния), был сравнительно малоизвестный философ Николай Федоров (1828–1903). Элементы его хилиастических пророчеств, «Общего Дела», обожения всей материи констатировались в самых радикальных, ультрабольшевистских и псевдоматериалистических формах русского мессианизма, в частности, в раннебольшевистском культе машин.
Мистическую идеологию Федорова (он испытал сильное влияние славянофильской традиции, а по своим политическим взглядам был ультрамонархистом) можно считать одним из крайних примеров, иллюстрирующих психологию русского максимализма. Пассивное отношение к мирозданию, готовность терпеть его таким, каково оно есть, — по Федорову, не что иное, как оправдание универсального, космического страдания {134}.
Относясь к злу, переполняющему природу, «реалистически», и тем самым узаконивая его, человек забыл о той победе над злом, что некогда была одержана благодаря Воскресению Христову. Федоров ожидал того, что Воскресение продолжится, охватив все живое, — вплоть до полного обожения Вселенной. Географии предстояло, с его точки зрения, сделаться сакральной наукой {135}. Ибо не только Палестина, но вся Земля должна была стать Святой землей; не только ветхозаветную, но и всемирную историю надлежало рассматривать в качестве священной {136}.
Это преображение всего земного предполагало, по Федорову, всеобщее воскресение мертвых. Последнее он интерпретировал в сугубо рационалистическом духе — как результат целенаправленной деятельности человека, точнее — как своеобразное научнотехническое предприятие. (В 1914 году почитатели Федорова провозгласили лозунг: «Смертные всего мира — соединяйтесь». У Федорова были поклонники и среди людей, занимавших ответственные посты в органах советской власти. Федоровская идея, по крайней мере, символически нашла свое выражение в большевистской традиции, о чем свидетельствует посмертное бальзамирование В. И. Ленина) [10] {137}.